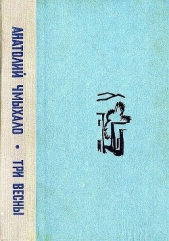Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я думал, что Мария Александровна, тоже удалившаяся еще ранее меня в свою комнату, не заметит моего ухода. Но она, оказалось, услышала мой спуск с лестницы и, появившись, как всегда, уже готовая к путешествию со мной, в своей шубке и меховой шапочке, сказала:
— Мы с вами опять вышли оба сразу! Я только что решила прогуляться.
— Тогда пойдемте снова вместе! — сказал я, уже привыкнув к мысли, что мне не удастся выйти без нее на улицу по крайней мере с месяц раньше, чем отец не придет к убеждению, что я отвык от своих опасных друзей.
Мы вышли и отправились на набережную Невы. Она, по обыкновению, не вошла в библиотеку, не ожидая в ней найти ничего для меня опасного. Я легко передал свою записочку и получил взамен новую вместе с обмененными мною книгами. Затем мы с Марией Александровной молча пошли домой.
— Вы совсем переменились ко мне! — печально сказала она по пути. — Когда мы жили вместе в деревне два года назад, вы были совсем другой. Вы помните?
— Да, помню! — ответил я. — Тогда было много лучше.
Я вспомнил, как был в нее влюблен, собирал тесемочки от ее башмаков и хранил букетики иммортелей, которые она дарила мне. Раз она, взяв стеариновый огарок, накапала целый слой стеарина на свой мизинец и, сняв с него эту формочку, налила в нее расплавленного стеарина. Потом она разломала оболочку, а получившийся в ней точный отпечаток своего пальчика подарила мне. И я берег его как лучшую драгоценность вплоть до того времени, когда мои вещи вместе с этим пальцем были уничтожены у Мокрицких из страха жандармского обыска.
Как трогательно и мило все это казалось мне и теперь. Но милый когда-то образ этой самой девушки, бывшей гувернанткой моих сестер, совсем изменился в моем представлении через несколько дней после того, как она была приставлена гувернанткой ко мне самому!
Если б я мог думать, что ее стремление выходить всегда со мной обусловливалось единственно ее личной симпатией ко мне, это было бы совсем другое дело. Кто знает, может быть, моя прежняя любовь к этой милой и доброй по природе девушке и воскресла бы, несмотря на то что ее облик заслонили у меня в последние годы жизни более яркие фигуры моих новых революционных знакомок!
Но... я знал, что она всегда выходит со мной не по одному своему желанию, а и по специальной просьбе моего отца для того, чтобы оберегать меня от встреч с друзьями. И это меня отстраняло от нее более, чем могло бы отстранить что-нибудь другое. В моих мечтах я всегда представлял себя защитником любимого существа, а не вялой особой, покровительствуемой им. Здесь же выходило именно последнее.
И я чувствовал, что мое прежнее обожание совсем прошло, что теперь ходил со мною по улице не мой прежний идеал женского совершенства, а самая обыкновенная девушка, каких много на белом свете. Еще хуже для моей прошлой любви к ней было то, что между нами оказалось теперь совсем мало общего по духу. Она стала казаться мне просто прозаичной.
Так печально и безрезультатно окончилась моя вторая юношеская любовь. Она началась, когда мне было семнадцать лет, и продолжалась более двух годов. Первая же любовь была у меня к моей тете по отцу на четырнадцатом году и держалась около года.
Наш петербургский дом стал теперь для моей души малопривлекательным жилищем, и все, чего мне хотелось, — это поскорей поехать на лето в деревню, чтобы повидать оставшихся там мать, брата и сестер.
Родное гнездо, в котором я вырос, где был знаком мне каждый уголок, страшно потянуло меня к себе на этом перепутье моей жизни.
«Поскорее уехать в деревню. Освежиться на лоне природы! Решить там наконец, что же мне далее делать! Оставшиеся товарищи по нашему тайному обществу распустили его сами, и его уже нет. Нового не основано. Нет и трех тысяч рублей, которые они могли бы дать за меня отцу, чтобы я был не зависим от него, а без них я не могу убежать из дому».
«Мне, — думал я, — остается только вернуться к своей первой любви, к естественным наукам, к которым присоединились благодаря моим занятиям последних лет также и общественные. Мне надо написать ряд научных исследований по тем и другим, внести новый луч света в человеческие головы и облегчить человечеству его трудный путь к будущим свободе и братству».
И, кто знает, не пошел ли бы я по этому пути, если бы сама судьба на следующий же день не разрубила своим неумолимым мечом гордиев узел и не бросила меня снова на прежнюю дорогу борьбы и страданий.
6. Последний вечер и последнее утро моей второй жизни на свободе
Вскоре после счета купонов отец повез меня (с целью отвлечения от опасных идей) в цирк Чинизелли. Я еще никогда не бывал ни в каком цирке, и цирк при этом первом же посещении страшно неприятно подействовал на меня тем, что клоуны безобразничали в нем самым возмутительным образом.
Во всех людях, не одетых в жандармский мундир и не продававшихся в политический сыск, я хотел видеть своих братьев по человеческому роду. И вот тут эти мои братья, с которыми я хотел бы разделить все, что имею, намазав свои лица мелом, звонко хлестали друг друга по щекам, а вслед за тем бежали обниматься и целоваться для того, чтоб, отскочив, опять повторить пощечину. И все зрители, казалось, были спокойны.
«Как трудно будет, — думал я, — научить таких людей вести себя с достоинством в социалистической коммуне!»
Какие-то атлеты из Южной Америки поднимали друг друга на лестницах, поставленных ими в рот на здоровые нижние челюсти. Выехал, стоя на коне, молодой сильно декольтированный юноша и начал прыгать во время езды через свою собственную голову. Выбежали десять лошадей и начали делать из себя пирамиды. Я тут пожалел, что вместо таких бесполезных упражнений дрессировщики животных до сих пор не догадываются приучить нескольких сильных птиц носить себя в воздухе, хотя бы по этому цирку, чтоб доказать практическую возможность полета на птицах, о котором я мечтал с детства. Затем были спущены с потолка очень высоко над землей две трапеции, и на них начали качаться двое декольтированных юношей, выделывая всякие бесполезно опасные и потому неприятные для меня штуки.
Вот выбежала девушка в трико, влезла вверх по лесенке и бросилась на шею ближайшему юноше, когда он подкачнулся к ней. Она покачалась у него на шее несколько раз, но в тот момент, когда ее качель сошлась в высоте близко с качелью второго юноши, она в воздухе перебросилась к нему на шею и стала качаться с ним. Мне был очень страшен ее прыжок в высоте, но публика сильно аплодировала.
Утром следующего дня, поднявшись раньше всех, я забежал отнести до нашего утреннего чаю книги в библиотеку, где получил новую записочку от Кравчинского.
«Непременно уезжай как можно скорей к себе в деревню на лето, — писал он мне, — и живи там спокойно, занимаясь своими науками. Все такие занятия пригодятся в будущем и тебе, и нам всем. А теперь тебе в Петербурге нечего делать. Наступает лето, глухой сезон в столичных городах даже для революции. Не мучь себя напрасными беспокойствами о нас и о сидящих товарищах; все будет хорошо, когда приедешь осенью. Самое важное будет заключаться в том, что о тебе тогда позабудет правительство, успокоится отец, и легче будет видеться с нами».
Я несколько раз перечитывал эту записочку и обдумывал свое положение. Пока деньги отца лежат в залоге за меня и я не могу их выплатить ему, я связан этим больше, чем тюремными запорами. Но залог ведь не вечно будет лежать. Подготовляется суд, и после него отцу должны будут возвратить деньги, а меня или посадят в тюрьму для отбывания наказания, или сошлют куда-нибудь, или оправдают и выпустят на все четыре стороны. Я чувствовал, что если бы у меня не было любви к науке, то после возвращения отцу залога я сейчас же ушел бы к революционерам.
«Но, — думал я, — не пристращусь ли я снова за лето к науке так, что мне будет страшно тяжело ее оставить для революции, как это было в первый раз, когда я решил идти в Москве в тайную сапожную мастерскую?..»