Раневская. Фрагменты жизни
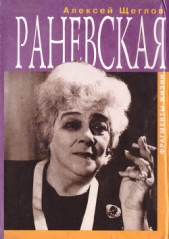
Раневская. Фрагменты жизни читать книгу онлайн
Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».
Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она очень тосковала в своем Котельническом замке. Правда, ее часто навещали друзья. Рядом, в доме на Швивой горке, жила Вероника Витольдовна Полонская, Норочка — последняя любовь Маяковского, самая близкая подруга моей матери. Полонская иногда заходила к Фаине Георгиевне, хотя Раневская не могла забыть и простить легкомыслия Норочки в молодости — считала, что та должна была понять, кем был Маяковский. Раневская записала тогда:
«Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня, хотя бы год — она славная, только славная, как Натали, непонимающая, кто рядом». И потом еще: «Чем чаще вижусь с Норочкой Полонской, тем больше и больше мне жаль Маяковского».
На стенах гостиной Раневской висели гипсовая мадонна с младенцем, гипсовый вдавленный профиль Пастернака, подаренный Сарой Лебедевой, который должен был висеть затылком к свету для правильного освещения, в застекленной этажерке лежала посмертная маска Пушкина и переехавший из Старопименовского белоснежный Чехов со смытым домработницей гипсовым лицом. В квартире не было привычных обоев, каждый новый гвоздь оставлял заметное отверстие. У Фуфы на стенах еще не было множества фотографий с дарственными надписями, еще были живы ее близкие и любимые люди.
Иногда у Фаины Георгиевны бывала Уланова. Вскоре после войны Фуфа приехала вместе с Галиной Сергеевной на каком-то маленьком тупоносом «форде» сказочно синего цвета на дачу, где мы отдыхали. Уже тогда Фаина Георгиевна знакомила бабушку с Улановой — с необычайно восхищенным уважением. Уланова держала себя удивительно просто. Помню, все пошли гулять к пруду, и там Галина Сергеевна учила меня правильно бросать камешки — «как мальчишки», сбоку, и так, чтобы они при этом летели как можно дальше. В котельнической квартире у Фуфы на стенах ее комнат я видел нежные акварели и темперные этюды: букеты полевых цветов, подаренные Раневской мужем Галины Сергеевны Улановой Вадимом Рындиным, который встретился с Раневской еще у Таирова в Камерном театре, был в восхищении от театра, от Алисы Коонен, был свидетелем московского дебюта Раневской. Он бывал у Раневской иногда один, чаще с Галиной Сергеевной. Они были соседями Фаины Георгиевны — их квартира размещалась там, где и сейчас живет Галина Сергеевна, — в центральном высотном блоке котельнического дома.
Рындин дарил Фаине Георгиевне множество редких книг, импортных красок, пастелей, голландскую темперу — он был театральным художником, тогда — главным художником Большого театра, часто бывал за рубежом. Фаина Георгиевна очень нежно к нему относилась, называла «Вадим», иногда уменьшительно-ласкательно «Вадимчик».
Однажды Раневская и Уланова приняли участие в нетрадиционном официальном мероприятии. После XX съезда ее и многих других известных деятелей культуры пригласили на процедуру сдачи лауреатских знаков «старого образца», то есть «сталинских» лауреатских медалей. Я хорошо помню Фуфины награды — ордена и эти лауреатские медали — профиль Сталина размещался на небольшом диске, прикрепленном колечком к красной орденской планке. Все это у Раневской называлось «похоронные принадлежности». Сталинская премия 1-й степени сопровождалась золотой медалью с золотым сталинским барельефом, 2-я степень имела золотого Сталина на серебряном диске, а третья была, по-моему, вся серебряная или бронзовая. Фуфа показывала домашним, как перед официальным правительственным чиновником, проводившим прием старых медалей, недавние верноподданные «отца народов» с омерзением бросали эти «культтовары» в огромный ящик, демонстрируя свое публичное очищение от скверны.
Фаина Георгиевна рассказала эту историю нам и потом Ахматовой, когда та гостила у Раневской на Котельнической. Анна Андреевна, приезжая в Москву, останавливалась обычно у Ардовых, на Ордынке. Но иногда Ардовы не могли ее принять, и тогда Ахматова жила на Беговой улице у Марии Сергеевны Петровых, о которой уже шла речь, или у Раневской.
«Когда мы начинали с Анной Андреевной говорить о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая: воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине… Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник: „Пушкин так никогда не стоял“. И про ленинградский, что у Русского музея: „Он так не стоял“…»
«Однажды я позвонила ей по телефону — она была в Москве — и сказала ей, что сегодня видела во сне Пушкина. Она крикнула в трубку: „Иду“ — и примчалась на такси, чтоб услышать мой сон».
«Мне думается, что так, как А. А. Ахматова любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: „Нет, вы только посмотрите на это!“ Журнал с Дантесом она держала отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые были глаза. Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть. Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту».
«Она была великой во всем, была она добрейшей, я видела ее кроткой, мягкой, заботливой. И это в то время, когда ее терзали».
У Раневской хранились две эпиграммы Осипа Мандельштама, посвященные Ахматовой. Раневская рассказывала, что, когда Ахматова впервые прочла эти эпиграммы, она была удивлена тем, что не нашла в них привычной по отношению к ней мандельштамовской иронии:
АННЕ АХМАТОВОЙ
АННЕ АХМАТОВОЙ
В середине 50-х в Москву приехал из Америки театр с оперой «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Это событие в жизни Москвы происходило в Большом театре, билет стоил 60 рублей. Фуфа рискнула пойти на необычную балетную оперу и пригласила меня в сопровождающие, забыв или простив мою публичную катастрофу в Риге с красным борщом.
Это был царский жест: в Большом театре я до того был лишь один раз — наш Хорошевский сосед Леонид Григорьевич Пирогов повел всех соседских по дому актерских детей на «Руслана и Людмилу» — в Большом пел его отец и его знаменитый дядя — Пироговы. Помню наполнившую зал знакомую музыку, огромную серо-синюю прозрачную Голову, нескончаемую бороду Черномора, шумные танцы, восторг и необычайную усталость после этого зрелища. А теперь, через несколько лет, там же — «Порги и Бесс».
Фуфа со мной двигалась в первые ряды партера, помню, левая сторона. Она была чуть-чуть другая, чем дома, может быть — как на смотре или на экзамене, если бы он ей предстоял. Кивала многим, улыбалась сдержанно. Померкла люстра, началась опера. Это было здорово. Все американцы на сцене были свободные, двигались легко — и не было привычных пачек, бород, камзолов, а музыка была неожиданная — до сих пор помню колыбельную.
В антракте Фаина Георгиевна побывала со мной в буфете, чем-то меня угостила и купила для бабушки апельсины. Кто-то ее отвлек. Фуфа поручила апельсины мне. Я был в восторженно-подавленном состоянии от Большого театра. Освещенный зал, огромное, великолепное пространство, Гершвин, золотые ярусы, ложи опять превратили меня в сомнамбулу, как лет пять назад в зале рижского ресторана. И я… забыл Фуфины апельсины. Мы вернулись в зал. Фуфа обнаружила пропажу фруктов. Это было ужасно. Весь путь в буфет мы вновь проделали уродливой деловой походкой среди плывущей в фойе роскошной публики. Апельсины нашлись, но в Большой театр Раневская меня больше с собой не брала — для Фуфы я стал окончательным рецидивистом. В этом она не ошиблась — с рассеянностью я долго не мог расстаться. К следующему моему дню рождения — 16-летию — Фаина Георгиевна подарила мне ручные часы «Маяк» с латунным желтым циферблатом, я их очень любил. Однажды оставил таксисту «Маяк» в залог, а когда вернулся, чтобы расплатиться и взять часы, — такси и «Маяка» след простыл. От Фуфы я скрыл пропажу, потом купил такой же «Маяк», но это было, конечно, не то.


























