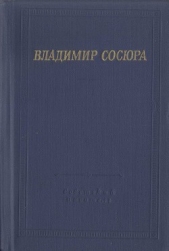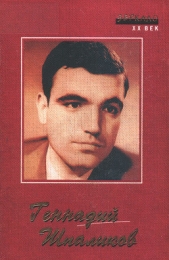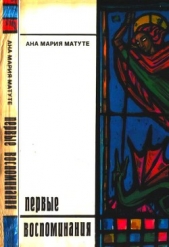Третья рота
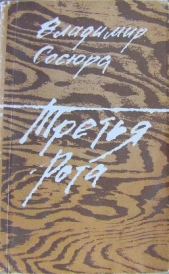
Третья рота читать книгу онлайн
Биографический роман «Третья Рота» выдающегося украинского советского писателя Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965) впервые издаётся на русском языке. Высокая лиричность, проникновенная искренность — характерная особенность этого самобытного исповедального произведения. Биография поэта тесно переплетена в романе с событиями революции и гражданской войны на Украине, общественной и литературной жизнью 20—50-х годов, исполненных драматизма и обусловленных временем коллизий.
На страницах произведения возникают образы современников поэта, друзей и недругов в жизни и литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Ольги уже не было юбки. Она сшила себе синие галифе и красные сапоги. Когда я давал ей свою шинель, она напоминала мне юнкера с тонкой, подвижной фигурой. Мы легли под деревьями. В парке никого не было. Где-то далеко в вечернем небе догорали золотые руины, и мне казалось, что это средневековый замок, а мы с Ольгой — молодые феодалы, возвратившиеся из далёкого путешествия, и этот замок в вечернем золоте — наш.
Проходили изредка торговки, и мы покупали у них дыни. У нас не было ножа, и Ольга тонкими и нежными пальцами ломала их. Мы целовались — два парня. Я расстегнул на ней одежду и ласкал её, а из кустов кто-то в полосатых штанах подглядывал за нами, да так увлёкся, что выдал себя шуршанием травы. Ольга вскочила и выстрелила по кустам из маузера. Кусты испуганно зашумели, и снова в парке пустота, янтарные ковры листьев, красные губы Ольги и её молодое, девятнадцати вёсен, тело. Она рассказывала про красную Венгрию, где она работала, как там задушили советскую власть. О своей первой любви к венгерскому революционеру, о подполье и тюрьме. С ужасом и мукой говорила, как её насиловал жандарм.
Мы шли к морю. Было уже темно. Прожектор огненными пальцами ощупывал ночь. Мы подошли к стене. Открыли узенькую чугунную калитку. За стеной свежо дышало море, а внизу, на развалинах, белая коза. Мы отошли чуть в сторону от калитки и легли на мою шинель. Только начали целоваться, как открылась калитка и на нас двинулась толпа людей. Я скатился с Ольги прямо в ярок, и мы тихонько лежали, пока прошли люди.
Завтра Ольга уезжает. Грустный, провожал я её на станцию. Душу мою жгли огнём последние звонки. Когда я подсаживал Ольгу в вагон, у неё на колене лопнуло галифе, и я на прощание припал губами к её колену. Вокруг смеялись люди, а я не обращал на них внимания, я видел только Ольгу и её тёплые глаза под лохматой шапкой. Отгремели прощально вагоны, а я всё стоял и видел бледную тонкую руку в полуденной синеве.
…Вскоре мы отправились на фронт. Под стук колёс, летевших на далёкий голос смерти, мы пели революционные песни. Они были такие яркие и хорошие. Это нас так волновало… В открытые окна вагонов мириадами далёких и вечных огней заглядывала ночь… Юные голоса дрожали, будто слёзы, которыми был залит «мир безбрежный»… Поезд мчался, и в нём мы с радостью несли в огонь свои жизни, чтобы осушать эти слёзы.
В политотделе армии я встретил товарища моего детства — Павку Евсеенко. Он был уже начальником политотдела дивизии и, знакомя меня со своими товарищами, немного иронично рекомендовал меня:
— Знакомьтесь, это бывший петлюровец.
Мне тяжко было слышать, что я «бывший петлюровец», и захотелось, чтоб меня ранило на фронте. В Каменце я отдал в политотдел дивизии свои документы и пошёл гулять. Ко мне подошёл парень с винтовкой и спросил документы. Я сказал, что документов у меня нет, что я отдал их в политотдел дивизии, и просил его пойти со мной туда, но он не захотел идти и повёл меня в ЧК.
В ЧК спокойный рабочий с железным лицом взглянул на мой партбилет, сказал: «Это наш», — и отпустил меня.
Меня назначили сотрудником дивизионной газеты «Красная звезда». Недалеко от Гусятина стоял наш эшелон, а где-то вдали гремели пушки. Там наступала наша дивизия. Мы меняли у пастухов газеты на яблоки, устраивали митинги и киносеансы в сёлах, освобождённых от панов. Стояли холодные лунные ночи с серебристыми тополями и длинными тенями от них. Наконец мы подошли к Гусятину. Он был весь разрушен ещё во время сражений империалистических армий. Ночью я ходил на развалины и всё мечтал об Ольге. В политотделе армии я отыскал в анкетах её фамилию, но куда она назначена — неизвестно. Мимо проносились эшелоны с новыми частями, и я всё смотрел, не блеснут ли из-под лохматой шапки тёплые Ольгины глаза.
Враг остановил наши армии, и на фронте стало тревожно. Меня посылают на фронт. Я хотел попасть в полк Андрея, но его полк не был ещё в распоряжении политотдела дивизии, и меня послали заведующим библиотекой в сапёрную роту. Я чуть не плакал, потому что очень хотелось попасть к Андрею, меня же направляют библиотекарем только потому, что хотят сохранить поэта.
Рота стояла где-то под Монастырисками. Я едва нашёл её. Только стал составлять каталог книг, как из тыла полетели снаряды, рвутся прямо под моим окном у униатской часовни. Связь была плохой. Наши части ночью отступили. И мы оказались под польским и нашим огнём. Не было ни подвод, ничего. Мы опрокинули арбу с сеном, которую вёз какой-то дядька, уложили туда кое-что из телефонного имущества и взбежали на гору. За горой стояли наши батареи и пулемёты, но надо же спасать ротное имущество. О библиотеке я и не думал, она осталась в комнате с моим недописанным каталогом. Пошли семь человек во главе с военкомом и командиром роты Прокоповичем на лошади. Пробыли они там недолго. Прибежали бледные, без командира роты, у военкома разорвана шинель, а лицо от бега налилось кровью. Оказывается, на них налетела конная разведка черношлычников.
Случилось это так: едва хлопцы спустились с горы, как на горизонте показались движущиеся чёрные точки. Они быстро приближались. Кавалеристов было восемнадцать человек. Начали отстреливаться, но винтовки японского образца после второго выстрела стали почти непригодны для стрельбы. Затвор словно прикипал, и его надо было отбивать ногой, а враг приближался со сказочной быстротою. Но и черношлычникам было нелегко. После выстрела конь под кавалеристом останавливается и вертится на месте. Тогда мишень оказывается неподвижной, и конник валится на землю. Черношлычники спешились и залегли в цепь. Под их огнём наши хлопцы стали отступать. Перескочили через плетень, а командир роты не смог, он был на коне. Четыре всадника летели на них. Два красноармейца не выдержали и побежали… За ними погнались двое конников. Первый кавалерист пролетел возле комроты, но не успел нанести удар саблей, которую выхватил, когда нёсся мимо. Второй всадник кричит комроты: «Бросай винтовку!» Прокопович бросил винтовку, выхватил наган, но почему-то не стреляет, комроты забыл, что наган не самовзвод, и черношлычник рубанул его по голове саблей, комроты упал, хлопцы не могли помочь ему, потому что отстреливались от петлюровцев, которые залегли за домами. Черношлычник подскочил прямо к плетню, он ладно и стройно сидел на коне, а с клинка его сабли ещё стекала кровь комроты. «Панове большевики, бросайте оружие!» Но товарищ с правого фланга вместо того, чтобы сдать оружие, выстрелил ему в голову из японского карабина…
Отступаем на Гусятин. Но в Гусятине уже поляки. Расстроенные, злые, стоим у шоссе, а мимо с музыкой проходит триста шестьдесят второй полк, которым командует Андрей Минский. Почти все красноармейцы — солдаты, вернувшиеся из французского плена. Позади на тачанке едет Андрей. На нём обыкновенная ватная фуфайка и старая солдатская фуражка без звезды.
— Ты почему здесь? — кричит он мне. — Поехали со мной!
Его полк шёл на ликвидацию прорыва. Я уже занёс ногу на тачанку, но на плечо мне опустилась рука моего военкома.
— Нельзя.
Я грустно смотрел вслед Андрею. Где-то за поворотом исчезли синие колонны, и только слышны были приглушённые звуки оркестра.
Мы отступаем через леса на Сатаново. В ночной тьме батареи увязают в глине, и мы вытаскиваем их руками, освещая себе дорогу факелами из соломы. Наскочит из-за кустов враг, и наступит смерть. Мы шли почти последними, и я декламировал про себя стихи, посвящённые Ольге.
Части сбились и перепутались. Говорили, что у поляков есть женские конные отряды, — похоже, что они переживают нашу керенщину, надеются, что мы вернёмся назад.
Перешли Збруч, и уже в Сатаново кто-то не выдержал, крикнул:
— Теперь мы на своей земле, да здравствует советская власть!
Но и на своей земле мы в панике отступаем. Мимо мчались обозы. По дороге катились буханки хлеба, а мы шли в пыли, голодные, босые, и смеялись над трусами.
Все настораживались, когда на горизонте холодно сверкало оружие и раздавались крики: «Поляки!» С нами отступало много галицийских солдат. А ночью, в сарае, под тревожные, близкие выстрелы пушек и хохот пулемётов, я рассказывал товарищам о своей любви к Ольге, они слушали и по-доброму смеялись надо мной. Так и обращались ко мне: