Бывшее и несбывшееся
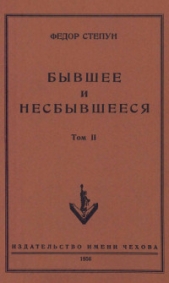
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все эти издательства и журналы, не исключая даже и последних, не были, подобно издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого, меценатствующего капитала. Поэтому во всех них царствовала живая атмосфера зачинающегося культурного возрождения. Редакции «Весов» и «Мусагета», «Пути» и «Софии» представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинарий. Вокруг выдающихся мыслителей и выдвинувшихся писателей здесь собирался писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто интересующаяся московская публика для заслушивания докладов, горячих прений по ним и ознакомления с новыми беллетристическими произведениями и стихами.
В годы этой дружной работы облик русской культуры начинал видимо меняться. Провинциальная психология старотипного русского интеллигента, воспитанного на Чернышевском и Михайловском, начала постепенно перерождаться. Не только в столицах, но и в провинции начали появляться группы людей нового, углубленного и расширенного сознания. Параллельно с обновлением литературы шло обновление и русской живописи. Грязноватые по колориту, иллюстративно–тенденциозные картины «Передвижников» уже без боя уступали место воздушно–красочным, эстетически самодовлеющим полотнам «Мира искусства» и «Голубой розы». Крепли музыкальные дарования Скрябина, Рахманинова, Медтнера, Ребикова, Гречанинова, Лядова и других. На еще невиданные высоты поднимался театр. Имена Станиславского, Дягилева и Шаляпина гремели на всю Европу. Могли бы греметь, если бы их сумели соответственно показать, и имена Ермоловой и Коммиссаржевской.
С гордостью показывая в Европе свои достижения, Россия с радостью и свойственным ей радушием принимала у себя иностранных гостей. Еще недавно мой дрезденский коллега, сын знаменитого Артура Никиша, рассказывал мне, до чего его отец любил дирижировать в Москве. Он находил, что более чуткой, восторженной, но и требовательной публики нет во всем мире. Очевидно, мнение Никиша разделялось многими артистами Запада. Кто только не приезжал к нам? Не буду перечислять имен пианистов и скрипачей — имя им легион. Из актеров я видел в Москве: Дузе, Сарру Бернар, Сальвини, Тину де Лоренцо, Грассо, Моисеи, Поссарта, Дюмон и др. Перед войной в Москву стали наезжать не только артисты, но также и писатели, художники и философы. Маринетти, Верхарн, Вернер Зомбарт, Герман Коген и др. читали научные доклады и художественные произведения.
Свидетельствуя о духовном здоровье России, в этом подъеме отчетливо намечались две линии интересов и симпатий: национальная и общеевропейская. С одной стороны, по–новому входили в жизнь тщательно изучаемые специалистами произведения Пушкина, Боратынского, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Соловьева, музыка Мусоргского (на сцене Шаляпин, на эстраде Оленина Д'Альгейм), апокрифы в переработке Ремизова для «Старинного театра» и впервые по–настоящему оцененная русская иконопись. С другой стороны, переводились, комментировались и издавались германские мистики (Яков Беме, Эккехард, Рейсбурх, Сведенборг), Эннеады Плотина, гимны Орфея, фрагменты Гераклита, драмы Эсхила и Софокла, провансальские лирики 12–го века и французские символисты 19–го. Всего не перечислить.
В театрах и прежде всего на сцене Художественного театра в замечательных постановках шли Гамсун, Ибсен, Стриндберг, Метерлинк, Гауптман, Гольдони и другие; классики: Шекспир, Шиллер и Мольер никогда не сходили с русской сцены.
Что говорить, не все обстояло благополучно в этом подъеме русской культуры. В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка, в котором под иконами Рублева и панно Врубеля бесконечно обсуждались идеи «Пути» и «Мусагета», но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их. Не только революционерам, но и умеренным либеральным деятелям приходилось туго: всякого народного учителя поинтеллигентнее, всякого священника, не водившего дружбы с урядником, норовили перевести в город без железной дороги. Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет.
ВАГОНЫ РОССИИ
Вспоминая свои разъезды по России, вспоминаю прежде всего русские вагоны, совсем иные, чем в Западной Европе, как по выстукиванию колесного ритма, так и по господствовавшему в них настроению. Кем–то из современных религиозных философов была высказана мысль, что русская душа не ценит крепкого домостроительства, так как всякий дом в этой жизни ощущает как станцию на пути в нездешний мир. Этой, правда, лишь отчасти верной мысли вовсе не противоречит тот факт, что во всяком русском поезде «дальнего следования» сразу же заводилась по–домашнему уютная жизнь: если всякий дом есть всего только станция, то почему бы и вагону не быть настоящим домом? Душою железнодорожной домашности был, как известно, чай. Боже, сколько выпивалось его между Москвой и Екатеринбургом, Москвой и Кисловодском — подумать страшно. Семейные ездили со своими чайниками, интеллигентам же одиночкам приносил чай истопник, у которого самовар у вагонной топки кипел круглые сутки. В свое время этот самовар никого не удивлял. А как — да простится мне эта эмигрантская сентиментальность — умилился я в 1928–м году, по пути в Двинск, увидав в латвийском по подданству, но русском по настроению поезде российский самовар. Право, он показался мне не самоваром, а добрым духом родного очага. Родным показался мне и истопник, принесший нам с женою по стакану крепкого, горячего чаю, какого в Европе нигде не дают. Никелевый подносик в черной, как ухват, руке и ломтик лимона на блюдечке — все это издавна заведенное и не отмененное новою властью — чуть не до слез растрогало нас с женою.
Вагонное чаепитие с обильными закусками и бесконечными разговорами длилось часами. Закуски и беседы бывали весьма разные. В первом классе не те, что во втором, в курьерском поезде иные, чем в пассажирском; менялись они также в зависимости от того, куда направлялся поезд: в Варшаву и дальше за границу, на кавказские воды или в Поволжье.
Самые изящные, самые «интересные» люди встречались, конечно, в поездах, несшихся к границе. Здесь, в международных вагонах первого класса с клубным радушием быстро знакомились друг с другом; «звезды» свободных профессий, главным образом знаменитые либеральные адвокаты, переодетые в штатское и не умеющие носить его высшие военные чины, дородные актеры императорских театров, англизированные представители меценатствующего купечества и милые московские барыни, бредившие тургеневским Баден–Баденом, Парижем и Ниццею. В какой час дня ни тронулся бы поезд, через час–другой после его отхода во всех купе уже слышна оживленная беседа. На столиках у окон аппетитно разостланы салфетки, на них все сборное и все общее: золотистые цыплята, тончайшие куски белоснежной телятины, белые глиняные банки паюсной икры, слоеные пирожки в плетенках, темные, крутоплечие бутылки мадеры, чай, конфекты, фрукты — всего не перечислить…
Разговоры все те же: о преимуществе просвещенной Европы и о нашей темноте и отсталости. Талантливо витийствуют русские люди. Словно на суде развивают знаменитые защитники свои передовые взгляды. Как на сцене, отстаивают непочатую целину русского нутра необъятные телесами актеры. Летучими искрами отражается игра точек зрения в задорно–веселых женских глазах,
Как хорошо ехать в Европу: отдохнуть, полечиться, похудеть, повеселиться и погрешить.
В пассажирских поездах, шедших в провинцию, бывало совершенно иное настроение: люди казались здесь обыденнее и озабоченнее. По дороге в Пензу, Казань, Нижний, Саратов знаменитые адвокаты наскоро просматривали дела и подготовляли речи, фабриканты проглядывали доклады своих директоров, а актеры доучивали роли. Столичные же барыни, если не считать путешественниц по Волге, в провинцию вообще не ездили. Вагоны первого класса катились тут часто почти пустыми. Во втором же, в последние годы мирной жизни, ездило уже много и серой публики: сапоги, картузы, поддевки, рубашки фантази, суровые наволочки на подушках, зачастую корзинки и парусиновые мешки вместо чемоданов.


























