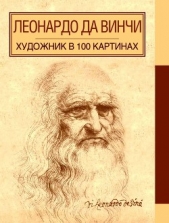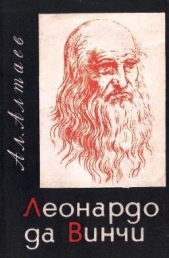Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи читать книгу онлайн
Самая издаваемая на русском языке книга о жизни Леонардо да Винчи.
Жизнь и творчество Леонардо да Винчи протекает на фоне сложных исторических и политических событий, которые происходили, в итальянских городах-государствах в конце XV — начале XVI века. Написанная крупным ученым, знатоком истории и культуры итальянского Возрождения А. Дживелеговым книга ярко воссоздает образ великого художника, архитектора, ученого, изобретателя, инженера. Автор знакомит читателя с талантливыми современниками Леонардо да Винчи — учеными, философами, архитекторами, художниками.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но несомненно одно. В Милане Леонардо именно как живописец чувствовал себя свободнее и тверже ступил на тот путь, новый путь, который он хотел открыть для искусства. Ни социальные, ни профессионально-художественные традиции в Милане не стесняли его. Из Флоренции он привез хорошую основу, воспитавшуюся на произведениях Мазаччо и его преемников, закрепленную уроками Верроккьо. Он был законченный художник по техническим знаниям, по рисунку, по мастерству выразительности, по умению владеть светотенью. Но этого ему было мало, потому что он был еще и гениальный художник и мог предоставить в распоряжение своего искусства глубочайшие научные знания. Он продолжал искать средства усиления впечатляемости от картин, находя именно в науке новые вдохновения и новые секреты. Портреты и «Мадонна в скалах», как и флорентийские картины, были опытами. «Тайная вечеря» была шедевром, как позднее «Святая Анна», как «Битва при Ангиари», как «Джоконда».
Флорентийский реализм у Леонардо перерос себя и превратился в более высокое воплощение основ искусства. Он освободился от всего, что тяжелило картину, разбивало впечатление, мешало композиционной собранности. И в нем появилось много нового. Он был технически усовершенствован детальной разработкой перспективы в ее трех видах: линейной, воздушной и цветовой. Он был обогащен новыми композиционными формулами, среди которых были и построения в геометрических фигурах и так называемое контрапосто, т. е. противоположение линий и плоскостей в оформлении тела. Он был углублен при помощи более искусного применения светотени, знаменитого sfumato. Он был доведен до новой ступени законченности разработкой передачи лица и его выражения, фигуры и ее движения.
Различие между Леонардо и его предшественниками бросалось в глаза уже современникам. Бальдассаре Кастильоне упоминает имя Леонардо в числе пяти крупнейших художников своего времени: Мантенья, Джорджоне, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Вазари ставит Леонардо во главе нового периода итальянского искусства. Классическое искусство Ренессанса берет свое начало от Леонардо. В этом отношении Вазари дал необыкновенно счастливую иллюстрацию к своему определению места Леонардо в эволюции итальянского искусства. В биографии Рафаэля он рассказывает о впечатлении, произведенном Леонардо на молодого художника такими словами: «Когда Рафаэль увидел произведении Леонардо да Винчи, не имевшего себе равного в выразительности лиц как мужских, так и женских, а изяществом фигур и их движений превосходившего всех других художников, манера Леонардо его чрезвычайно поразила и ошеломила. Так как она понравилась ему больше всякой другой, он принялся изучать ее, что стоило ему больших усилий, однако все же он понемногу освободился от манеры Пьетро (Перуджино) и пытался, как умел и как мог, подражать самому Леонардо. Но, как он ни старался и ни усердствовал, все же никогда не удалось ему превзойти Леонардо в некоторых трудных задачах, и хотя кое-кому кажется, что он выше по своей нежности и природной легкости, тем не менее, он не мог сравняться с ним по выразительности самой основы его замысла и величию мастерства, а только приблизился к нему гораздо больше, чем другие, в особенности изяществом своего колорита».
Мы можем смело поверить и такому великому художнику, каким был Рафаэль, и такому опытному ценителю, как Вазари, и такому человеку с большим вкусом, отражавшему мнение наиболее культурных кругов, как Кастильоне. Место Леонардо в истории искусства останется за ним, и, как бы ни мудрили некоторые современные искусствоведы, Леонардо-художник никогда не лишится обаяния гения в искусстве, ибо он оплодотворил свое художественное творчество наукой и тем открыл совершенно неизведанные широчайшие горизонты для мирового искусства.
Правда, он писал мало. Но мы знаем, что было тому причиной. Он искал новых секретов совершенства. «Художник, — говорит он, — который никогда не сомневается, достигнет немногого. Когда произведение превосходит замысел художника, цена ему небольшая. Когда же замысел значительно выше создания, творение искусства может совершенствоваться бесконечно».
А вот его собственное объяснение того, почему он мало писал: «Когда замысел требовательнее создаваемого, — это хороший знак. Если кто будет держаться этого правила с юных лет, тот несомненно станет отличным мастером. Произведения его будут немногочисленны, но полны достоинств, способных остановить людей в восторженном созерцании перед достигнутыми им совершенствами».
В своих записях, которые частью пошли в составленный Франческо Мельци «Трактат о живописи», частью остались вне его, Леонардо поведал современникам и потомству некоторую часть своих научных и технических секретов, при помощи которых он хотел реформировать основы живописи. В его набросках, как и во всем, что от него осталось, нет системы. Он не успел превратить сырой материал в законченное произведение, а Мельци был на это вообще неспособен. Тем не менее то, что оказалось включенным в трактат, было настолько значительно и до такой степени ново, что Аннибале Карраччи, один из крупнейших художников болонской школы, когда познакомился с «Трактатом», сказал, что он сберег бы ему двадцать лет труда, если бы попал ему в руки раньше. Мнения других художников, вероятно, мало чем отличались от мнения Карраччи. И это — несмотря на то, что ни «Трактат», ни заметки о живописи, не вошедшие в «Трактат», далеко не исчерпывают всего того, что Леонардо дал новой живописи. Как во всем, Леонардо и тут дал неизмеримо меньше, чем мог.
Чтобы несколько отчетливее понять роль Леонардо в культуре Ренессанса, очень любопытно сопоставить его с другим художником, который был больше чем на сорок лет моложе его, с Бенвенуто Челлини. Трудно подыскать двух людей, более разных, чем Леонардо и Бенвенуто. Леонардо был весь рефлекс, бесконечная углубленность в мысль. Когда ему нужно было что-нибудь делать, он колебался без конца, часто бросал, едва успевши начать, охотнее всего уничтожал начатое. А Бенвенуто действовал, не удосуживаясь подумать, подчиняясь страсти, инстинкту, минутному порыву, никогда не жалел о сделанном, хотя бы то были кровавые или некрасивые поступки, и не видел в них ничего плохого. Воля в нем была, как стальная пружина, аффект — как взрывчатое вещество.
У Леонардо воля была вялая, а аффекты подавлены мыслью. Поэтому и в искусстве своем он был великий медлитель. Сколько времени и с какими причудами писал он хотя бы портрет моны Лизы! А как Бенвенуто отливал Персея? Это была дикая горячка, смена одного неистовства другим, головокружительное, сокрушительное и одновременно созидательное творчество: мебель дробилась и летела в печь, серебро, сколько было в доме, сыпалось в плавку, тревога душила, захватывало дух.
И обоим с трудом находилось место в обществе итальянского Ренессанса. Один эмигрировал потому, что не умел брать там, где стоило лишь сделать небольшое усилие; другой потому, что хотел брать там, где ему вовсе и не предлагалось, и притом с применением некоторого насилия.
Что у них общего? То, что было общим у всей итальянской буржуазной интеллигенции на рубеже XV и XVI веков. Творческий энтузиазм в искусстве у Челлини, а у Винчи в науке и искусстве то, что Энгельс называл отсутствием буржуазной ограниченности у людей, создавших современное господство буржуазии. В разбойничьей душе Бенвенуто этот энтузиазм был внедрен так же крепко, как и в душе Леонардо, мыслителя, спокойно поднимавшегося на никому не доступные вершины научного созерцания.
Вскормленный Флоренцией при закатных огнях буржуазного великолепия, приемыш Милана, где политическая обстановка еще ярче вскрывала непрочность буржуазного строя, Леонардо не сумел стать для нее своим, необходимым, занять в ней какое-то неотъемлемое место. Во Флоренции Лоренцо относился к нему с опаской, в Милане Моро его почитал и баловал, но не верил ему вполне. И потому ни тут, ни там, да и нигде, пока Леонардо был в Италии, он не видел себе такой награды, на какую считал себя вправе рассчитывать. Настоящим достатком он не пользовался в Италии никогда: не так, как Тициан, Рафаэль, Микеланджело или даже такой скромный в сравнении с ним художник, как Джулио Романо. А временами он по-настоящему чувствовал себя в Италии лишним. Его трагедией было ощущение непризнанности, культурное одиночество. Он принимал культуру своего общества с каким-то величественным и спокойным равнодушием, любил ее блеск и не опьянялся им, видел ее гниль и не чувствовал к ней отвращения. Он лишь спокойно отмечал иногда то, что считал в ней уродливым, но обращал внимание далеко не на все. Прежде всего, он не любил судить ни о чем, подчиняясь какому-нибудь моральному критерию. Подобно тому, как Макиавелли отбрасывает моральные критерии в вопросах политики, Леонардо отбрасывает их в вопросе бытовых оценок. Его критерии порой насквозь эгоцентричны. «Зло, которое мне не вредит, все равно, что добро, которое не приносит мне пользы». А если зло вредит другим, это его не касается. Для него не существует пороков, которые не были бы в каком-то отношении благодетельны: «Похоть служит продолжению рода. Прожорливость поддерживает жизнь. Страх или боязливость удлиняют жизнь. Боль спасает орган». Его мысль, чтобы прийти к выводу о недопустимости преступления, должна предварительно впитать в себя аргументы научные или эстетические или те и другие вместе. Вот почему, например, осуждается убийство: «О, ты, знакомящийся по моему труду с чудесными творениями природы, если ты признаешь, что будет грехом (cosa empia) ее разрушение, то подумай, что грехом тягчайшим будет лишение жизни человека. Если его сложение представляется тебе удивительным произведением искусства (maraviglioso artifizio), то подумай, что оно ничто по сравнению с душой, которая живет в таком обиталище…» Для Леонардо убийство не противообщественный акт, преступление, разрушающее основы общежития, а просто факт, основанный на непонимании научных и эстетических истин. В таких заявлениях Леонардо очень далеко уходит от ходячей морали Ренессанса. Но даже когда он высказывается в духе ренессансного канона, он обставляет свои высказывания целым рядом всяких оговорок. Про добродетель, например, Леонардо мог говорить раз-другой совсем по канону, без этого было нельзя: «Добродетель — наше истинное благо, истинное воздаяние (premio) тому, кто ею обладает». «Кто сеет добродетель, пожинает славу». Но научный анализ торопится нейтрализовать такую декларацию скептическим замечанием: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не мог существовать (non caperesti) в этом мире». Требования добродетели должны отступить перед требованиями биологическими, т. е. стать вполне факультативными. Поэтому Леонардо и не очень полагается на моральные качества людей. Он не говорит, как Макиавелли, что люди по природе склонны к злу, но и не считает их особенно наклонными к добру. «Память о добрых делах хрупка перед неблагодарностью».