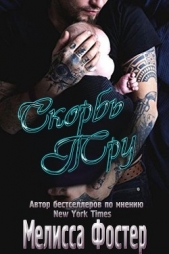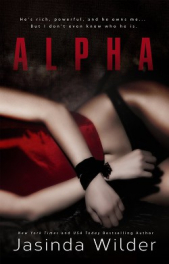Зрячий посох

Зрячий посох читать книгу онлайн
В основе повести «Зрячий посох» лежит переписка автора с известным критиком А. Н. Макаровым. Это произведение о времени и о себе, здесь нашли место заметки В. Астафьева о своем творчестве, о творчестве товарищей по перу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я поскорее стал подниматься со стула, чтобы откланяться Александру Трифоновичу, ибо в дверь просунулась уже седая голова Дементьева, еще кто-то там замаячил. Александр Трифонович улыбнулся мне ободряюще и чуть виновато, видите, мол, сами. А я твердил: «Спасибо! Спасибо!» — и делал какие-то торопливые, мелкие и тоже виноватые полупоклоны.
Александр Трифонович вышел из-за стола, подал мне руку и, не выпуская ее, как бы загородив меня плечом и левой рукой от кого-то, довел до двери.
— Ну что? Как? — спросил в дверях Дементьев. — Договорились?
— Договорились, договорились, — отозвался Твардовский, выпустив меня и уже с кем-то здороваясь. — Молодой человек поработает еще, подумает, и тогда уж…
— Ну вот и хорошо, вот и хорошо! — еще сильнее окая от волнения, принял меня Дементьев и проводил в коридор. — Витюша, ты хоть ел сегодня? Не ел. А подожди-ка ты меня, братец, в коридоре, и мы вместе пообедаем. Автора надо кормить. Ко-орми-ить. У него и деньжонок-то небось нету.
— Ну как это нету? Как это нету?! — захорохорился я, думая, что мы пойдем в ближнюю столовку. Но мы часа через два пошли в ЦДЛ. Александр Григорьевич занял отдельный столик, чтоб не мешали, не привязывались чтоб: «А то ведь пожрать не дадут…»
И за весь вечер — мы просидели допоздна — никого за стол не пустил, кроме своего друга Владимира Викторовича Жданова, человека симпатичнейшего, собеседника умнейшего. Несколько лет спустя он подарил мне свою книжку «Некрасов», выпущенную в серии «Жизнь замечательных людей», с трогательной надписью, и книгу эту я храню, как дорогую мне реликвию.
Много мы переговорили тогда и о многом. О моих рассказах и гранках, оставшихся на столе главного редактора, даже не упоминалось, к моей радости, и они, наверное, ушли туда, куда им и следовало уйти — в корзину.
С тех пор мои отношения с «Новым миром» были очень добрые, почти дружеские. Дважды со мной заключали договор на повести «Кража» и «Пастух и пастушка», дважды поддерживали авансом и дельными советами. Но обстоятельства складывались так, что замордованный журнал не смог их опубликовать, однако оба раза, сперва Дементьев, а затем Лакшин добивались того, чтобы я не возвращал аванса и, более того, всякий раз журнал откликался на публикации этих повестей в других журналах добрыми рецензиями и статьями, а в 1967 году напечатали и рассказ «Ясным ли днем», который, как я узнал из статьи Алексея Кондратовича, понравился Твардовскому. Публикация получилась достойной журнала «Новый мир», во всяком разе, я не краснел за нее и долгое время ей радовался, равнялся в работе на этот рассказ.
Нет Александра Трифоновича на свете, к сожалению, нет, и люди работают в журнале другие и по-другому, но «старые новомирцы» мне по-прежнему родны и дороги.
Как-то в толчее писательского съезда юркнул я в буфет Колонного зала, а буфет там шире иного железнодорожного вокзала, и столы в нем из плах, модные столы, барачного фасона. Мчусь к стойке с питьем и бутербродами, как вдруг вижу за торцом стола одиноко попивающего кофе седого, но все еще свежего лицом человека. Я уж было промчался, да вдруг стукнуло:
— Александр Григорьевич! Голубчик! Сколько лет, сколько зим!
— Здравствуй, Витюша, здравствуй! — мы обнялись. — Какой ты был отсталый, такой и остался! — с горькой стариковской усмешкой молвил он и пояснил: Сейчас ко мне никто не подходит — не нужон. Это когда в «Новом мире» правил хвостом таскались, в ботинок от любви мочились, как щенята. Ноне отворачиваются. Смотрю, и ты мимо мчишься. Думаю, и этот хлюст!.. — Мне показалось, что у старика и голос дрогнул. — А Володя помер. Помнишь Володюто Жданова? Ждали мы тебя в Пахру, ждали. Следили за тобой. Не суетишься. Не суетишься. Много работаешь. Держишься. Рад за тебя. И Володя радовался. С Урала-то пошто уехал?
Посидели мы в сторонке, поговорили, чайку попили. А в Пахру навестить старика я так и не собрался. Москва эта, как изредка в нее попаду, возьмет меня в такой оборот…
Впрочем, раз оправдываюсь, значит, виноват, и нечего красивые покаянные турусы разводить.
Даст бог, еще увидимся, поговорим. Не так уж много настоящих, бескорыстных, «бесплатно» в тебя верящих и поддерживающих людей встречается на творческом пути, особенно в начале его — «новомирцы» были ко мне именно такими.
А пятнадцать минут, потраченных на меня великим поэтом и гражданином нашего времени, я буду отрабатывать всю жизнь.
Когда я учился на Высших литературных курсах, семья моя оставалась в Чусовом — городке, как я писал, не только чадном, дымном, но и вечно бедном культуришкой, развлечениями, достатком, провиантом, транспортом, хозяйским доглядом, жилищным устройством. Зато всегда он был богат смертоубийствами, пьянством, дебошами, ранним износом людей, особенно на ферросплавном заводе.
А я еще суровость свою и принципиальность проявил, отдав детей в пятую школу, «татарскую», как ее называли в городе. Стояла она, пошатнувшись корпусом в лог, подпертая со стороны лога спаренными бревнами, полом вросла в землю, окна перекосились. «Татарской» она звалась по причине того, что половина ребятишек в ней училась татарского происхождения — в Чусовом жило много татар. Работали татары на высоко оплачиваемых, но и самых тяжелых работах, большею частью в горячих цехах, жили меж собой дружно, сплоченно, во все времена упорно справляли свои национальные праздники и обряды. Чувство собственного достоинства, трудолюбие, кристальная честность, порядочность и добросовестность татар вызывали к ним самое искреннее уважение русских людей, и можно смело утверждать, что жили они воистину по-братски, всеми силами помогая друг другу во времена бед и тяжких испытаний, коим явилась только что отгремевшая война.
Вот и захотелось мне, чтоб дети мои учились не в «образцовой» семнадцатой школе, а с рабочим классом, пусть в гнилой, холодной школе. И не раскаиваюсь, что я их туда отдал — гениями и вундеркиндами они не стали, да и в семнадцатой из них таковые не получились бы — задатков нет, но честными и добрыми людьми мои дети сделались, и в этом немалая заслуга пятой, «бедной» школы.
Однако, это я сейчас так рассуждаю, но тогда, учась на ВЛК, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах и в лит. обществах, покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня. И решил я — уж баловать так баловать — свозить свою семью в Дом творчества, аж в Дубулты, куда зимой принимали писателей с детьми, детей постарше — даже без пап и мам.
И вот поднарядились мои дети и жена, сводил я их в Москве кой-куда, даже в Большой театр — до се они это вспоминают, и катанули мы на поезде в заманчивую даль.
Приехали в Дубулты. Поселили нас в дальнем корпусе, среди сосен и кустов, всех четверых в одной комнате — мы и радехоньки. Напротив поселилась пожилая интеллигентная женщина и смущенно представилась тещей Лазаря Карелина. Почемуто в комнатах не оказалось лампочек, но скоро их выдали. Я ввинтил себе и теще Лазаря Карелина в комнаты лампочки, слышу — бранится кто-то в соседней комнате женским голосом, но матюки мужские. Тут является моя девица, пребывавшая тогда в самом что ни на есть любопытном возрасте, и сообщает, что тетенька почему-то ходит в обуви по столу и по всему, что есть в комнате, и кроет всех и вся, «как в Чусовом на улице». Я сказал дитю, чтоб она не совала нос куда не просят и не слушала бы того, что слушать в детстве не полагается. Дите посопело носом и унялось. Тетенька, побранившись, забраковала жилье и ушла в другой, более удобный корпус, в более светлую и просторную комнату. Тетенька, как выяснилось, была не простая, но золотая — жена драматурга Арбузова, не та жена, что у него нынче, совсем другая жена. Она была вечно чем-то недовольна, говорила громко, вела себя везде и всюду мятежно, и однажды в Риге, в фирменном магазине, сняла и стала отряхивать норковую шубу на витрину с пирожными, и когда латышка-продавщица закудахтала: «Чьто вы делаете? Как можно?», жена знаменитого драматурга дала ей четкий отлуп: «Погода у вас мерзкая. Снег. Шуба моя намокла. А мне она дороже ваших вшивых пирожных…» Латышка и заткнулась, слезы у нее на глаза навернулись, жена знаменитого драматурга уж громко, на весь магазин крыла современный театр, выворачивая его, как старую шубу, драной и грязной изнанкой наружу.