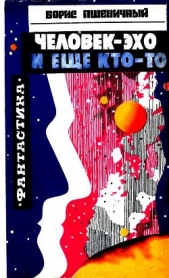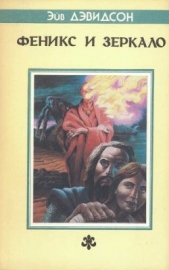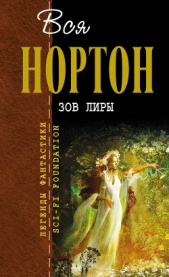Протяжение точки

Протяжение точки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это настоящие (московские, литературные) путешествия.
ЗЕРКАЛО И АЛЕКСАНДР
Необходимо отвлечься от Москвы и вернуться во «внешнее» пространство, иначе сюжетное притяжение московского фокуса, дополненное магнетическим обаянием Толстого, привычным образом поглотит наше внимание целиком.
Необходимо, всей душой помещаясь в Москве (как может быть иначе, если она — «помещение души»?), всякую минуту стараться видеть Москву извне, сохранять ее в пространстве умозрения.
Здесь, во внешнем — вне-московском — пространстве, всё на первый взгляд просто: в начале века им безраздельно правит Александр I. Его фигура предстает определенного рода модулем эпохи, каковым и положено быть русскому царю. По нему выравниваются все «чертежи», в первую очередь ментальные: он не просто образец для подражания, он, в сознании подданных, представляет Россию миру и небу (последнее особенно важно).
Однако в этом как раз вопросе — представительстве, не столько внешнем, сколько сокровенном, духовном — мы наблюдаем наибольшие противоречия в портрете Александра. Его поведение, как принято писать, — загадочно, непоследовательно, «раздвоено». Александр, по общему мнению, был в свое время самый видимый, самый «на виду» и одновременно самый прячущийся человек, то есть — уходящий из пространства, в котором он должен был представительствовать за Россию, служить образцом русского «черченого» человека.
Прятки Александра I: вот сюжет, который необходимо хотя бы в общих чертах разобрать при составлении «стереометрического» портрета человека его эпохи.
Игра в прятки ему была свойственна изначально. Причину найти нетрудно (их определяли во множестве); стоит назвать самую первую, которой, может статься, окажется достаточно — самую простую, «детскую» причину пряток.
Александра с младенчества слишком много выставляли напоказ. Все пишут о привычной легкости его поведения на публике: он чувствовал себя непринужденно, находясь постоянно в центре общего внимания. Но как достались ему эти легкость и непринужденность?
Это заметки о пространстве; среди прочих его свойств есть агрессия.
Для младенца оно, безусловно, агрессивно; он не просится на свет из материнской утробы, плачет, едва познакомившись с реальностью. Мать для него — привычное «помещение для пряток».
Александра отняли у матери с момента рождения. Первое, чего он лишился в жизни — материнской, естественной защиты от агрессивного внешнего пространства.
Бабка, императрица Екатерина, забрала его у матери с первой минуты пребывания на белом свете.
Екатерина сделала с его матерью то же, что с самой Екатериной проделала в свое время предыдущая императрица, Елизавета. Елизавета отняла у Екатерины Павла — Екатерина, в свою очередь, отняла у своей невестки Александра.
При этом Екатерина как будто сыграла во «все наоборот»: у нее, немки, когда-то отняли сына и воспитали на русский дедовский манер. Теперь она сама забрала внука, разлучила его с матерью и стала воспитывать подчеркнуто по-немецки, согласно новейшим педагогическим теориям, поступая всякий раз противоположно тому, как растили Павла.
При этом одинаково было то, что ребенок в том и другом случае рос без матери.
Игру во «все наоборот» с воспитанием Александра отмечают все мемуаристы — что стоит за этой игрой и что в ней может быть интересно для нашего «оптического» исследования?
Все, вплоть до мелочей.
К примеру, Павла растили в люльке, обкладывая собольими мехами, кутая так, что младенец едва мог дохнуть свежего воздуха. Он вырос чахлым и болезненным, неспособным справиться с малой простудой.
Александр вырос в прохладе — особенно следили за тем, чтобы у него не были закутаны ноги.
Вот что важно: он спал не в люльке, но на железной кроватке, все четыре ноги которой прочно стояли на полу; постель была плоской и едва упругой. Александр вырос здоров и подвижен; его босые ноги хорошо запомнили твердую землю (лакированный, во всю ширину залы ровно настланный паркет). Он вырос в жестком, идеально разлинованном «немецком» пространстве.
В кубе.
Это то, что нам нужно. Куб и люлька, как противоположные по способу воздействия пространственно-педагогические модули. Это только звучит сложно, но на самом деле тут все просто.
Люлька помещает младенца в сферу; он не просто качается — он движется по внутренней поверхности сферы. Мир для него есть шар, имеющий одну твердую точку: крюк, на котором висит люлька. Нам не разобрать, что приходит в голову младенцу, растущему в люльке; можно только предположить, что привычным для него оказывается в итоге мир монополярный, «царский», в котором твердо и надежно что-то одно, в котором есть один центр существования и нужно только занять в этом мире место этого центра. Московский мир.
Стать царем, стать таким «Я», от которого остальной мир откладывается зависимыми, вторичными проекциями: вот что нашептывает младенцу Павлу дедовская русская люлька. Она растит царя, то есть в данном случае — солипсиста, супостата, деспота, не принимающего и не понимающего никакого другого мнения, как только своего. Разумеется, это колдовское действие люльки имеет силу лишь в том случае, если в самом деле в ней растет царский сын: мир вокруг него и далее остается достаточно пластичен, чтобы сохранять у царевича ощущение «бытия в люльке».
И вот вырастает царский сын, Павел: хилый, нервный, и вместе с тем уверенный, что мир должен вращаться вокруг него, — и попадает в ситуацию безвластия, когда мать-императрица, у которой его отобрали, ненавидит и боится его как законного наследника (сама она правит незаконно, потому что убила отца его). Мать, Екатерина, боится и потому отнимает у Павла всякую возможность власти. И тогда, расщепленный этой ситуацией, когда за ним право центра, юридическое и телесное, присвоенное ему матрицей-люлькой, а он лишен этого права, он обесцентрен — русский царь неизбежно вырастает эксцентриком, не просто супостатом, но психопатом, ежесекундно меняющим свое мнение, смешным и страшным одновременно, которого милость и немилость одинаково пугают подданных, и остается только дождаться, когда обстоятельства судьбы, болезнь или заговор уберут его с трона. Он это понимает и оттого делается вдвое страшен и эксцентричен. В этом случае вырастает (встает из люльки) хорошо нам знакомый император Павел I.
В свою очередь его сын, «мальчик в кубе», Александр, растет согласно противоположному сюжету. Его обстоит прочное, надежное пространство; воплощенный порядок для него ровно распространен во все стороны света — о том, чтобы все вокруг было в порядке, позаботится педантичная бабушка-немка. Мир, его обстоящий, не подвешен на один крюк, не зависит в своем устройстве от одной точки (от воли одного человека), и потому нет телесной — несознаваемой, абсолютной — надобности в овладении этой центральной точкой. Мальчик, растущий в кубе, заведомо не столько царь, не столько монархист, сколько своего рода республиканец, — правда, такой республиканец, которому не входит в голову, что для поддержания окружающего «кубического» порядка необходимо совершать постоянные и неустанные усилия: все и так стоит как надо.
При этом бабушкино «как надо» имеет свою изнанку — не так-то и комфортно пространство, идеальному обустройству которого все вокруг посвящено. Если разобраться, изначально это пространство ужасно, потому что в первую очередь ужасно и неверно то, что ребенка отняли у матери и не дали ему привыкнуть к опасному внешнему пространству, но сразу поместили его, как в аквариум, в клетку пространства, да еще и выставили в этой клетке, точно зверя, всем напоказ. И еще: он никакой не республиканец, этот мальчик в кубе — он русский царевич. Ему дулжно, хочет он этого или нет, встать в центр бытия, повиснуть на царском «крюке» и следить за тем, чтобы все вокруг совершалось согласно его монаршей воле, независимо от того, есть у него эта воля или нет.
Александр растет в раздвоении, принципиально отличном от того, в котором рос его отец. У него все идеально устроено снаружи, внутри же — а что у него внутри? Неизвестно.