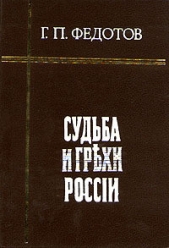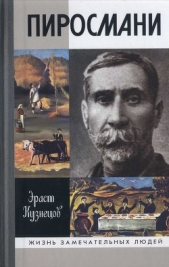Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Намерениям его существовало немаловажное препятствие: за масляные краски он все еще не брался. Однако так не терпелось скорее приступить к желанному, что он решил пока сделать только эскизы, но как можно добросовестнее, с хорошо проработанными типами, подробностями обстановки — а уж потом, со временем, постепенно перевести их один за другим в настоящие масляные картины. Попутно мелькала мысль, опять-таки по примеру Хогарта, когда-нибудь размножить их гравюрой или вошедшей в моду литографией, что было бы даже лучше, потому что и литография стала бы не в пример дешевле гравюры, да и отпечатков дала бы несравненно больше.
Исполнять свои эскизы в цвете он не стал. Акварельных навыков как будто хватило бы, в акварели он вполне преуспел, но, видно, чувствовал: то, что годилось для аккуратных и нарядных «военных картинок», никак не шло к изображению реальной жизни во всей ее пестроте, нескладности и затертости. Поэтому работал он сепией — коричневой краской. Сепию Федотов только что испробовал во «Французских мародерах» и в «Переходе егерей», и она пришлась ему по сердцу своим мягким, сочным цветом, способностью принимать разные оттенки, оказываться заметно холоднее там, где она наложена густо, плотно, а там, где легко, прозрачно, — делаться теплее; однокрасочный рисунок сепией выглядел более живописным, чем если бы он был исполнен разведенной тушью или черной акварелью.
Работы было очень много. Каждый из семи сюжетов надо было тщательно продумать и выстроить, распределив роли в нем между действующими лицами. Ни одно лицо и ни одно явление не должны были быть случайными, все должно было способствовать общему впечатлению и делать его неотразимым.
Легко сказать — «выстроить». Тот опыт, что успели накопить первые русские бытописатели, последователи Венецианова, Федотову был малопригоден. В их картинах не было ни сколько-нибудь развитого драматургического действия, ни мало-мальски выраженных человеческих характеров, с этим действием крепко связанных. Скажем, сидят себе двое приятелей в комнатах, один наигрывает на гитаре — всё как будто славно. Но что это за люди, как они сошлись, какая надобность привела одного к другому, что воспоследует из этой встречи? Каков, наконец, нравственный урок? Поболтали и разошлись — как не встречались.
Академические мастера — они умели крепко, по надежным правилам сколотить сюжет и выказать его суть с непреложной наглядностью. Да только сюжеты эти, кем только не писанные и переписанные за века — от гениев былых времен до нынешних профессоров Академии художеств, — ничего общего не имели с сюжетами, заботившими Федотова, и правила эти ему никак не годились.
Насколько величаво, возвышенно и значительно было всё в академической живописи — герои, их поступки и страсти, даже самые места действия, настолько же низменно, мелко, зачастую постыдно было то, что собирался он живописать. Офицерская прихожая с панталонами, развешанными на двери. Жалкое жилище мелкого чиновника, с разрушениями, произведенными вчерашней попойкой. Еще более жалкое жилище неудавшегося живописца, обремененного обширным семейством. Не просто реальная жизнь в ее будничности, но жизнь с черного хода, с изнаночной, оборотной стороны — то, о чем неприлично говорить, о чем стыдно вспоминать, что не принято показывать посторонним и уж тем более увековечивать в картине.
В самом деле, задумай Федотов написать изгнание Иисусом Христом торговцев из храма, было бы несравненно легче понять, как подступиться к делу или хотя бы у кого поучиться на первых порах. А изгнание денщиком назойливых кредиторов из офицерской прихожей?! До всего приходилось доходить своим умом. Конечно, сверяясь с дорогим Гогартом, а кроме него и с еще одним любимым англичанином, карикатуристом Вилки (то есть Дэвидом Уилки), припоминая и Остаде с Теньером, не гнушаясь и своими отечественными карикатуристами, повсюду, где только можно было, обучаясь нелегкому умению зримо и доходчиво высказать то, что на душе.
Все задуманное, сочиненное надо было еще скомпоновать, красиво и осмысленно расположить в интерьерах, выстроенных все по тому же нехитрому принципу, что и когда-то в «Передней частного пристава накануне большого праздника»: одна стена прямо против зрителя и две другие по бокам образуют подобие коробки, или так называемого сценического павильона, не раз виденного в театре. То были азы композиции, и он постигал их так, как всё привык постигать, — на деле, чертя эскиз за эскизом, проверяя перспективу и соотношения групп, прежде чем прийти к тому, что его удовлетворяло.
Он объединял персонажей, кого-то выдвигал вперед, кого-то назад, добиваясь нужного эффекта. Переставлял и комбинировал, переменял уже определившееся, возвращался к отвергнутому и вновь переменял. Научился хитрить: воздвигал перегородки, образующие закутки, придумал размещать в одной из стен альков или отгораживать угол ширмами. Помогала и уловка, счастливо найденная еще в «Уличной сцене в Москве во время дождя», — приоткрывать двери, ведущие в соседние помещения, и кое-что показывать там, а кое-что — в открытом окне. Места прибавлялось как будто немного, но все-таки сюжету становилось просторнее, да и однообразие коробки, скучно глядящей на зрителя своими тремя стенками, отчасти скрадывалось.
Персонажи — собранные вместе, они образовали бы целую толпу, до восьми десятков людей разных возрастов и состояний, — должны были убеждать достоверностью своего облика. Федотов ворошил кипы набросков, отыскивая нужные типы. Многое он рисовал и по памяти. А зрительная память у него была замечательная: он мог, упомянув в разговоре некое, совсем случайно увиденное лицо, скажем, немецкого пастора на чьих-то похоронах, тут же, на клочке бумаги нарисовать его, да так похоже, что присутствующие сразу узнавали: «Ах, да ведь это наш пастор Ян!»
Было особое удовольствие в том, чтобы, мешая вымысел с жизнью, лукаво соединять в одном сюжете реальных людей, понятия друг о друге не имевших и в подобные истории никогда не попадавших. Чтобы в гущу посетителей, соболезнующих хозяйке Фидельки, поместить хорошо знакомого гробовщика Моисея Изотовича Изотова, втирающегося с предложением услуг своей профессии. Надо думать, что едва ли не за каждым изображением стоял живой, действительно ходивший по земле человек и, часто, добрый знакомый Федотова. Кто этот молодой архитектор с гладко зачесанными темными волосами, автор проекта «Монумент Фидельке»? Верно, один из питомцев Академии художеств, какой-нибудь федотовский приятель. А эта женщина за его спиной, старательно поливающая ароматическим уксусом дымящие угли, — кому из друзей Федотова она приходилась сестрой, женой, матерью? Никто этого нам уже не поведает.
Работать было трудно, но интересно; едва ли не каждый день приносил хоть маленькое открытие, а потому и дело двигалось на удивление быстро. Трудно поверить — не ранее весны начал он первую сепию, а уже ноябрем подписано «Следствие кончины Фидельки» — самая зрелая из всех семи и, судя по тому, последняя. По композиции в месяц, при том что он не бросал и академических классов.
Он как будто мог быть доволен: вместить удавалось очень много, все укладывалось, устраивалось, все лепилось друг к другу, занимая положенное по сюжету место, и смысл каждого листа становился очевидным.
Диковинным миром предстают на этих листах закоулки гигантского людского муравейника: все здесь сдвинуто, все беспорядочно, все перемешано и перепутано, все словно расталкивает друг друга. Мир многолюдный и многопредметный, мир чрезмерный и несколько утомительный в своей чрезмерности, мир назойливый. Мир копошащийся, суетливый и создающий ощущение неслышимого нам шума — говора, плача, криков, смеха, причитаний, болтовни, препирательств. Мир неопрятный, неряшливый, уродливый, кричащий о своем безобразии. Куда подевалась та красота окружающей действительности, которую Федотов совсем еще недавно тщился передать с такой бережливой нежностью!
Здесь, в сущности, торжествует та же нормативность, что и в отринутых Федотовым «военных картинках», только нормативность, так сказать, навыворот: там было правильное поведение офицеров и нижних чинов в правильных ситуациях, предусмотренных воинским уставом, тут — поведение неправильное в уродливых ситуациях, противоречащих уставу нравственному; там — как должно быть, тут — как быть не должно; там — красиво, гармонично, тут — нестройно и пестро; там — чисто, тут — грязно.