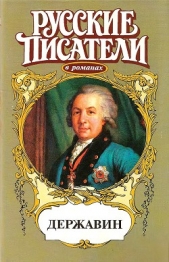Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...
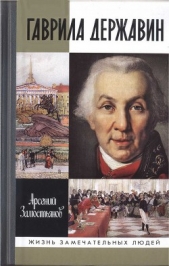
Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век... читать книгу онлайн
Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.
«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.
Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот так — с конспирацией, с видениями ему удалось уединиться и хотя бы на несколько дней без остатка предаться сочинительству…
В этом могучем стихотворении несколько финалов — когда читателю необходимо перевести дух. Читаем:
Да это же финальная кульминация! Вот тут бы и задуматься о Божием величестве потрясённому читателю. «Отец! — в бессмертие Твое». Куда выше? Все слова сказаны, продолжать, кажется, невозможно. Но Державин снова поворачивает огромный фрегат оды и направляет его вперёд — дальше, дальше, по волнам и против течения:
Прочитав оду, отложив книгу, мы физически чувствуем: здесь поэт отдал всё, до дна вычерпал эмоции и, обессиленный, рухнул на колени.
Один современный поэт, любящий и понимающий Державина, убеждал меня, что самая последняя строфа здесь — лишняя. Всё уже сказано, она только размазывает финал. Да, Державин нередко допускал «проходные» строфы — из любви к масштабным полотнам. Длиннее — значит, фундаментальнее, а столь необозримая тема достойна непременно длинной, пространной оды. Но здесь заключительная строфа для Державина была ключевой! Он удостоил её на редкость проникновенного комментария — о пролитых слезах, которыми только и можно завершить такую оду.
Нечасто Державин в объяснениях к стихам проговаривался о сокровенном. Он стеснялся припадков вдохновения, боялся показаться юродивым или вертопрахом. А тут вдруг заговорил о высоком, о божественном. Оказывается, молитва отзывается в сердце той самой музыкой, которую чуть позже все подряд многозначительно стали называть вдохновением. У Державина было меньше пиитической гордыни, чем у Соловьёв эпохи литературоцентризма.
Оду «Бог» иногда называют началом классической русской литературы. Крупнейший исследователь поэзии и судьбы Державина Я. К. Грот рапортует о «первом русском произведении, которое стало достоянием всего мира». Трудно говорить о массовом международном успехе русского стихотворения в XVIII веке. Но переводы «божественной» оды сочинялись повсюду. Главным образом они появлялись по инициативе русской стороны…
«Ода „Бог“ считалась лучшею не только из од духовного и нравственного содержания, но и вообще лучшею из всех од Державина. Сам поэт был такого же мнения. Каким мистическим уважением пользовалась в старину эта ода, может служить доказательством нелепая сказка, которую каждый из нас слышал в детстве, будто ода „Бог“ переведена даже на китайский язык и, вышитая шелками на щите, поставлена над кроватью богдыхана», — говорит Белинский.
Василий Михайлович Головин опубликовал записки «О приключениях в плену у японцев» — с экзотическим подтверждением славы Державина: «Однажды учёные их меня просили написать им какие-нибудь стихи одного из лучших наших стихотворцев. Я написал Державина оду „Бог“, и когда им оную читал, они отличали рифмы и находили приятность в звуках; но любопытство японское не могло быть удовольствовано одним чтением: им хотелось иметь перевод сей оды; много труда и времени стоило мне изъяснить им мысли, в ней заключающиеся; однако напоследок они поняли всю оду, кроме стиха:
который остался без истолкования, об изъяснении коего они и не настаивали слишком много, когда я им сказал, что для уразумения сего стиха должно быть истинным христианином.
Японцам чрезвычайно понравилось то место сей оды, где поэт, обращаясь к Богу, между прочим говорит: „И цепь существ ты мной связал“».
…Державинскую попытку объяснить суть Троицы не только японцы не могли понять.
Многие посчитали эту формулу крамольной, да и Державин намекал, что одним православным каноном здесь не обойтись. «Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел тут три лица метафизические; то есть: бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени, которое Бог в себе и совмещает». Намёки на существование множества миров и солнц тоже вызывали недоумение ревнителей канона. И всё-таки ода получила признание и в церковных кругах: покоряла молитвенная искренность.
У Державина находят немало то ли бессознательных, то ли продуманных заимствований из немецкой поэзии. Перекличку отрицать невозможно — тут вспоминается и «Вечность» Галлера, и «Мессия» Клопштока, и «Бог» Гердера, и «Величие Божие» Брокеса. «Зависимость Державина от западных образцов вообще заходила, кажется, дальше, чем это принято думать», — считал историк литературы А. Н. Веселовский. Ясно одно: немецкая поэзия подтолкнула Державина к смелому замыслу: показать связь Бога и человека в природе, в мыслях, даже на бытовом уровне. Об этом вопит самая известная строфа «Оды» — совершенная по форме и глубине мыслей:
Как и после «Фелицы», поэты принялись подражать Державину. «Гимн Богу» Дмитриева, «Гимн Непостижимому» Мерзлякова, «Песнь Божеству» Карамзина, наконец, «Бог» Хвостова… О, Хвостов! В скором будущем — граф Сардинский. Дмитрий Иванович Хвостов — анекдотический персонаж истории русской литературы, и это по-своему почётная роль. Он олицетворение метромании, страстной поэтической графомании. Когда у него случались крепкие строки — Воейков приговаривал: «Это он нечаянно промолвился!» Камер-юнкером он стал по протекции Суворова: острословы облюбовали реплику императрицы по этому поводу: «Если бы граф Суворов попросил — я бы его и камер-фрейлиной сделала!» Даже графский титул его вызывал улыбку: ведь это Суворов, освободитель Италии, выхлопотал ему Сардинского. Хвостов был не просто родственником великого полководца, он стал его лучшим другом. И это уже не потешная история! Ни с кем Суворов не был так откровенен, как с Хвостовым. Обиды на Потёмкина после Измаила, несогласие с павловским опруссачиванием армии, отчаяние во дни жестокой опалы — всё это Суворов напрямки излагал в письмах Хвостову, которому доверял, как никому другому. Он и скончался в доме Хвостова на набережной Крюкова канала. Но даже Суворов не считал Хвостова истинным поэтом. Современники так огульно зашикали Хвостова, что после смерти метромана его практически не переиздавали.