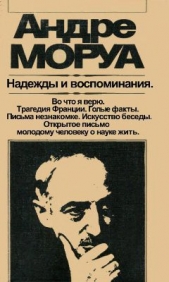Жизнь, подаренная дважды

Жизнь, подаренная дважды читать книгу онлайн
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Загружалась сцена в два приема. Сначала из задних дверей шумно пробегали через зал актеры в солдатском обмундировании: плащ-палатки, каски, шинели… Это солдаты сорок первого года, те, кого уже нет в живых; они рассаживались по одну сторону прохода в полутьму. А затем с почетом входила из ближних дверей комиссия, направлявшаяся этим рейсом на стройку учинять разгром. Прожектор ловил ее и от дверей вел до самых кресел, где белые салфетки на подголовниках, где стюардессы сразу же начинают порхать над ними. Вот эту комиссию, этих актеров срочно отпихивали от дверей, чтобы пропустить вперед высокого гостя, с перепугу сами не понимая, что делают. И Виктор Васильевич вместе с женой вступили в зал во главе комиссии, как бы возглавив ее. А прожектор осветил их и повел, и повел…
Сначала никто из зрителей ничего не понял, потом смешок раздался, потом — смех. В театре этом, на беду, и ложи не было, чтобы, скрывшись в глубине, только белые руки выложить на бархат барьера. При всеобщем, как говорится, оживлении зала, ведомые прожектором, сели они, по бокам и за спиной сидела охрана.
После в театре говорили, что произошло все это не случайно, кто-то специально все так подстроил, чтобы убрали Любимова. Учиняли даже собственное расследование. Но я думаю, все было проще: слишком уж страху нагнали. Шутка сказать, с часу дня явились в театр товарищи в штатском, движение на площади перекрыто, у телефона дежурят… Когда страх, люди глупеют непредсказуемо.
Имел я случай наблюдать нечто подобное после войны в Болгарии, в чудном городе Пазарджик, где мы тогда стояли. Прознало тогда командование, что едет с проверкой из армейских верхов, из Софии, генерал. И будто бы генерал этот любит цветы. В казармах, как известно, цветы не полагаются. Но раз любит… Приказано было офицерам нашего полка сдать по столько-то левов, навезли цветов видимо-невидимо, повсюду расставили в горшках. А генерал этот, как оказалось, превыше всего чтил устав и цветов не любил. Садясь в машину, приказал кратко: «Разминировать!» То-то смеху было, когда эти цветы потом не знали, куда деть. Но что тот генерал в сравнении!..
И вот сидим в кабинете Любимова наверху (сам Юрий Петрович в зале), слушаем спектакль по трансляции. Конечно, гостей не ставят в такое положение, что уж говорить. Но теперь важно: уйдет Гришин со спектакля или не уйдет? Спектакль, как нарочно, без антракта, при всеобщем любопытстве высидеть два часа… И хоть бы без жены это произошло, руководящие жены особенно чувствительны. Но встать, выйти на виду всего зала, все это завтра же разнесется по Москве, смеяться будут…
А как трудно проходила пьеса, столько было многоразличных комиссий. Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал песню «Шар Земной». И когда он с гитарой шел через сцену, через весь зал и пел: «…От границы мы Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала…», у меня мороз шел по щекам. Слова, музыка, голос его, он сам! Но в комиссии подбирают людей нечувствительных, ничего на их лицах не мелькает, ни мысль, ни чувство. Встанут, поблагодарят и направятся к выходу, наденут пальто в гардеробе: поприсутствовали, идут доложить. Мнения своего не высказывают. Не люди, микрофоны на ножках. Но микрофон хоть воспроизводит с точностью, а эти натасканы предугадывать мнение начальства. И нередко от них начальство и узнает свое мнение.
Один раз я не выдержал. В комиссии был отставной полковник бронетанковых войск, он тоже вот так направился к выходу, ни слова не уронив. И тогда я громко, на все пустое фойе — вслед ему: «Товарищ полковник! Вы — фронтовик! Вы и на фронте были так застенчивы?» И что-то в нем дрогнуло: повернулся, пошел не в гардероб, а в кабинет Любимова на второй этаж. Комиссия — за ним. Но что они говорили, чтоб ничего не сказать, так уж лучше б и не оставались.
А последний раз принимали спектакль под самый Новый год, 31 декабря, когда в квартирах наряжают елки. Руководил тогда культурой в Москве, то есть заведовал ею в Моссовете, некто Покаржевский. И вот туда, к нему, в главк призвали нас с Любимовым. Мы — двое, а с той стороны видимо-невидимо бойцов, и все — испытанные. Заместителем Покаржевского был Шкодин, известный тем, что кто-то, спутав или нарочно, сказал: «Вот тут выступал товарищ Паскудин…» Так за ним и закрепилось.
Некогда закончил Шкодин то ли факультет, то ли курсы театральных режиссеров, и надо же так случиться, что на стажировку направили его к Любимову. Тот посмотрел его, послушал: «Не надо вам этим заниматься, режиссера из вас не получится. Вам это не дано». И стал Шкодин руководить искусством в точном соответствии с принципом: кто может — делает, кто не способен — учит. Вот он-то вместе с Покаржевским решал судьбу спектакля.
Во время обсуждения Любимову стало плохо. Объявили перерыв. В приемной, где не так сильно было накурено, он сел в кресло под распахнутой форточкой, дышал. Пощупал и у него пульс: то частый, то выпадает. Принесли стакан воды, первое наше российское лекарство. Тут Шкодин вышел из кабинета, глянул, воткнул сигарету в рот, закурил. Стоит и дымит.
Когда вновь началось обсуждение, я предупредил: если Шкодину дадут слово, я выйду: вот за этот его поступок. Шкодину слово дали. Я вышел. Послали за мной: надо же продолжать. Опять он встает, начинает говорить. Я опять вышел…
И после всего, что вытерпели, когда спектакль наконец пошел, надо же такому случиться! А по трансляции слышно, идет лихо, весело, может, потому, что адресат в зале, уже не первая реплика в него попадает, хотя писалось не о нем. И каждый раз, как в зале смех, администратор хватается за голову: «Запретят!» А мне какое-то чувство подсказывает: нет, не запретят. Ведь это получится вот что: пришел, увидел, запретил… У нас привыкли делать не своими руками, не оставлять следов.
И еще соображение, которое по прежним временам должно было напугать: некая уругвайская газета, переврав и название и содержание, заявила сенсационно: в Москве, в Театре на Таганке идет антисоветская пьеса. Уругвай от нас далеко, но мы традиционно чувствительны к тому, что подумает или скажет о нас самый захудалый иностранец. И председатель ВЦСПС Шелепин, глава наших тогдашних профсоюзов, «школы коммунизма», член политбюро, которое в тот момент почему-то называлось президиумом, немедленно подхватил: лично сам я не видел, но мне докладывают…
Прозванный Железным Шуриком, Шелепин хотя еще и занимал высокий пост, на самом деле доживал последние дни на политической арене, звезда его покатилась к закату, и все, кому положено знать, знали: он есть, но его как бы уже нет, он — бывший.
Мир мал, и в этом постоянно убеждаешься. Шелепин — из Воронежа, земляк мой, и даже его младший брат учился в одном классе с моим двоюродным братом Юрой Зелкиндом, который погиб под Харьковом. Не знаю, был ли младший Шелепин на фронте, а старший благополучно учился в Москве, готовил себя к великим деяниям и уже в студенческие годы, когда зашел разговор в общежитии, кто хочет кем быть в дальнейшем, заявил твердо: хочу стать членом ЦК и им стану. И стал. А помогла ему в том, чего она знать не могла, Зоя Космодемьянская: то ли комсомольский билет он ей вручал, то ли напутствовал, когда ее и других таких же девочек отправляли на подвиг и смерть мученическую, а он, здоровый мужик, оставался в тылу.
В длинной офицерской шинели, в звании капитана, и дня на фронте не пробыв, Шелепин шел за гробом Зои Космодемьянской, сопровождал в последний путь героиню, как бы воспитанную им, есть эта хроника, я ее видел. Вот с того дня и пошел он вверх резво: сначала по комсомольской линии, потом по партийной, и все выше, круче, а в 58-м году уже занял пост председателя КГБ, сдав его в дальнейшем Семичастному, тоже комсомольскому секретарю, выросшему под ним, участвовал в удалении Хрущева на пенсию, после чего зашептали, а по «голосам» заговорили уверенно, что Брежнев — фигура временная, скоро власть переймет Шелепин, Железный Шурик, он-то и наведет порядок.