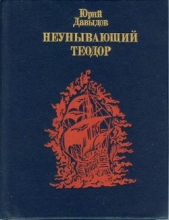Завещаю вам, братья... Повесть об Александре Михайлове

Завещаю вам, братья... Повесть об Александре Михайлове читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен читателю как автор исторических романов и повестей.
История давно и серьезно интересует писателя. С первых своих шагов в творчестве он следует неизменному правилу опоры на документальную основу. Его литературной работе всегда предшествуют архивные разыскания.
В центре повести «Завещаю вам, братья…» – народоволец Александр Михайлов. Выдающийся организатор, мастер конспирации, страж подполья – таким знала Михайлова революционная Россия.
Повествование ведется от лица двух его современников – Анны Ардашевой, рядовой деятельницы освободительного движения, и Зотова, ныне забытого литератора, хранителя секретных портфелей «Народной воли».
И новизна материалов, и само построение сюжета позволили автору создать увлекательную книгу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я к Певческому мосту всегда так, чтоб Мойкой ехать. Люблю этот сомкнутый строй строений, плавный изгиб. Вот и дом Пушкина… Я, помните, издателя Краевского щипал: такой, сякой, скупердяй и прочее. А ведь надо и то заметить: как Пушкина убили, все промолчали, один Краевский напечатал – «Солнце поэзии русской закатилось…» Да, мимо дома Пушкина. Разве зайдешь поклониться памяти? Там ведь теперь что? Охранное отделение; извините, центральное шпионское депо… Ну, а тогда, когда я ехал к Певческому, не скажу точно, кто жил: может, еще графиня Клейнмихель, а может, уже гофмейстерина Кочубей.
Приезжаю к болезному шурину. Домочадцы: «Ох, батюшка, ах, батюшка…» Прохожу в первую комнату, у него это вроде гостиной, окнами на Дворцовую. Медлю, гляжу себе в окно. Вижу рослую фигуру в теплой шинели, одна рука в кармане, другая – в свободной отмашке.
Кто бы вы думали? Государь.
И – мельком – баба с пасхальным узелком, полицейский обер-офицер, еще кто-то. И вот не то какой-то титулярный, не то учитель, бородка клинышком. В пальто, ворот поднят, зеленый околыш фуражки.
Миг – и по стеклу как палкой. Я отпрянул. И еще выстрел. Я кинулся вон, к выходу, не попадая в рукава, выскочил на Дворцовую. Вижу: государь бежит, а тот, в фуражке, за ним и – стреляет, стреляет. Государь бежал зигзагом, подхватив полы шинели и будто на бегу приседая…
Я что хочу отметить? На другой иль третий день был у меня Платон Ардашев, Аннушкин братец. Говорили о давешнем происшествии: все тогда обсуживали и пересуживали. И вот мы о том, как государь бежал зигзагом. Я не ухмылялся: и на четвереньках поползешь, и на брюхе. А Платон Ардашев утверждал: именно так, если по-военному, так и надо было уклоняться от пуль, не имея возможности отстреливаться. И ничего в этом зигзаге не было заячьего, а, напротив, верный расчет…
Да. Так вот, на Дворцовой. Угловым зрением я приметил офицера, кинувшегося наперерез преступнику. Не поручусь, но, кажись, террорист навел на офицера револьвер – эдаким мгновенным, инстинктивным, защитным движением. Но пальнул-то опять в государя. Ударом шашки – плашмя по спине – офицер сбил с ног террориста. Набежали люди. Потрясенный происшествием, офицер пробормотал не то удивленно, не то с удовлетворением: «Погнулась». То был капитан Кох, приятель Ардашева.
Помню, кто-то из литераторов: Соловьеву-де в минуты покушения внезапно сделалось жаль своей жертвы, он заколебался… Э-э, беллетристика! Я видел, он шел на государя широким, ровным, мерным шагом, как идет человек, знающий, на что он идет.
И последним штрихом: какая-то фурия, лицо перекошенное, капор съехал – вцепилась она Соловьеву в волосы, рвет, тянет, а серьга на ухе прыгает, бьется…
Соловьеву заклешнили локти. Повели. Я тупо смотрел ему вслед. У меня было состояние, которое, наверное, испытывает тот, кто каким-то чудом вывернулся из-под ревущего локомотива. Темное, чудовищное, страшное пронеслось надо мной, обдавая жаром и смрадом.
Я побрел к арке Главного штаба. Мне показалось, я так же вяло переставляю ноги, как Соловьев. Я подражал, невольно подражал.
Близ арки различил человека. Лицо было в крупных, с горошину, каплях пота. Я сознавал, что знаю, хорошо знаю этого человека… Он исчез, словно привидение. И когда исчез, я сообразил, кто он… А на площадь натекала толпа. Ждали, что государь выйдет на балкон.
«Nun danket», как немцы, наши не пели. Редактор мой Бильбасов, известный историк, был на площади с женой, она – Краевского дочь… Владимир Алексеич говорил, что рядом с ними дожидался выхода государя какой-то малый, мастеровой. Он громко сказал, указывая на балкон: «Если патриот – кричи «ура», а если социалист – молчи». «И знаете, – смущенно прибавил Бильбасов, – ведь все слышали, а, представьте, никто не возмутился!»
Дома я слег. Ни температуры, ни кашля с насморком. Но я был болен. Я все думал: как это я там, у арки, не признал тотчас Александра Дмитрича? Лицо его не исказилось, только крупные капли пота… Как последние, когда кран завернешь… А я его не признал. Он исчез, а уж тогда-то я и признал, что это был именно Михайлов.
Не волею случая, как я, очутился он на Дворцовой. Скверно мне стало, нехорошо. Не потому, что обманулся в Михайлове, и не потому, что Михайлов меня в чем-то обманул. Тут другое… И не оттого даже, что я террорную доктрину отвергал. Другое… Само безобразие картины: старый человек, с грыжей, одышливый, бежит от стрелка, а Михайлов высматривает: убит иль не убит старик в теплой шинели? Высматривает, покрываясь тяжелыми каплями пота. Безобразным все это было, иначе сказать не умею.
Либерал? Телячий студень? А я и не спорю, я согласен. Но что такое обвинение в либерализме? Кто в меня бросит рифмой: «либералы – обиралы»?
Да, забыл было… Соловьев-то палил из того самого «гиппопотама», за которым – помните? – Анна Илларионна ходила к доктору Веймару. Тот самый револьвер, «американец», который был у них в Харькове, когда хотели отбить каторжан…
Ладно, либерал, согласен. А вина моя в чем? В том, что противлюсь мракобесию, произволу, разухабистому шовинизму, да только не револьвером, не метательным снарядом. Так за что уничижать? За то лишь, что не могу и не хочу палить в старика, бегущего зигзагом?
Между прочим, в программе землевольцев было, сам читал, она у меня хранилась: заводить связи среди либералов с целью эксплуатации их. Меня-то как раз и эксплуатировали.
Но никогда, ни разу не явилась мысль: укажу – вот он, вяжите его. Почему? А не потому ли, что меня «там» гражданином не считают? А если не считают, чего я «туда» пойду? Я подданный, и только. А не гражданин.
Но это не все. Есть неистребимое омерзение к доносительству. Ты в принципе противник террора, а пойди-ка донеси? Э-э, нет, слуга покорный! Мерзит. Опять потому, что есть «мы» и есть «они». «Мы» – это те, на которых доносят. А «они» – те, которым доносят. Рубеж и пропасть.
У этого «мы» широкие крылья, многих обнимают. С Александром Дмитричем я часто не сходился, а лучше сказать, часто расходился, но обоих обнимало это «мы». И какая уж тут «эксплуатация»?
А самое-то примечательное в наших отношениях не хранение кожаных архивных портфелей, а наши диспуты. Случались такие часы, откровенные и доверительные. Мне кажется, Александр Дмитрич в них нуждался. И не потому, что дискутировал с Владимиром Рафаилычем Зотовым, не семи он пядей во лбу. Оттого нуждался, что в товарищеском круге, где все в согласии, если и спорили, то о частном, практическом. А человеку нужно потрудиться мыслью, потребность есть. А у меня возражения – вот и трудись, одолевай.
Но о терроре не заикались. Какая-то особенная помеха. Нет, не архисекретность; я вовсе не хотел проникать в тайны. Иная была помеха, глубоко, в сердце.
Однако приспел час. Мне кажется, до отъезда Александра Дмитрича с Анной Илларионной в Киев и Чернигов. Тогда уж знали, что Соловьев подсуден Верховному уголовному, ну и двух мнений не возникало – эшафот, виселица.
А ночь накануне покушения скоротали они вдвоем: Соловьев и Михайлов. На квартире у Александра Дмитрича. И какую ночь – пасхальную! Вникните, господа, призадумайтесь и вообразите.
Когда царствие божие замешкалось где-то за горизонтами, в мареве, Христос предал себя своей участи, обрек себя Голгофе. Страх был пред чашей сей. Он страх одолел. И все на себя взял, ради того, чтоб убыстрить наступление царствия божиего.
В ночь светлого воскресенья, когда везде огни и радость и этот веселый трезвон, в такую вот ночь сидели в какой-то невзрачной петербургской комнатенке Соловьев и Михайлов.
По лицу Соловьева перебегали нервные тени. Вообще скупой на слова, молчаливый, он совсем в себя ушел. Чрезвычайная сосредоточенность владела им.
«Я метель вспомнил, – вдруг сказал Соловьев. – Ужасная метель была. И если б не мужик, пропал бы».
Из давнего ему вспомнилось, довоенного, когда ушел он в народ и работал кузнецом. На пороге войны хозяева сворачивали дело, людей гнали. Соловьев остался без копейки. Бродил с толпой бедолаг в поисках куска хлеба. Зимою, в ознобе, в горячке, тащился по заметенному снегом проселку. Смеркалось, нигде ни луча света, метель. Он упал и не мог подняться. Его спас мимоезжий мужик.