Бурса
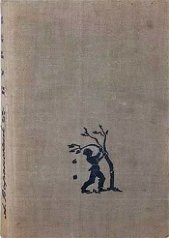
Бурса читать книгу онлайн
Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать толкнула меня в плечо.
Отец взял наши головы, мою и лялину, заглянул глубоко в глаза, перекрестил нас трясущимися руками, поцеловал в лоб и отвернулся к стене.
Мама прошептала:
— Иди на кухню играть в коняшки.
Я побежал на кухню и играл там в коняшки.
Ночью отец скончался.
В гостиную, где он лежал, нас не пускали. Забывали вовремя кормить. Мы испуганно и подавленно следили за старшими. Перед выносом мама приодела и вывела нас к панихиде. По середине гостиной стояли два сдвинутых стола и на них — обитый черной материей длинный, безобразный ящик. В ящике лежало что-то очень изжелта-белое и неподвижное. Я понял: это мой мертвый отец. Нос чуждо и нелепо задирался кверху. От гроба и от белого отца источалась тошноватая тишина, и она не смешивалась ни с тихим и сдержанным разговором причта, родных и знакомых, ни с позвякиванием кадила, ни с плачем матери. По обеим сторонам ящика стояли подсвечники, затянутые белым ситцем, и в них желтели огоньками свечи. Комнату убрали хвоей, и запах ее смешивался с синим и постным запахом ладана. Все это было страшно, но я не поверил смерти. Мне дали свечу. Стоя и слушая панихиду, я вспомнил, что скоро рождество христово, придут из села славить, затем уберут елку, развесят хлопушки, разные подарки, а на самой верхушке под потолком заблестит вифлеемская звезда, та самая, с какой путешествовали волхвы. Хотелось, чтобы мне подарили пистолет и книгу с раскрашенными картинками.
На лбу отца что-то было наложено. Что бы это такое? Я сделал два, три робких и неполных шага туда, где в ризах служил священник. Мама потянула меня за рубашку назад. Лежавшее на лбу у отца не давало покоя, и я стал думать, как лучше и скорей мне приблизиться к гробу. Старшие часто опускались на колени, и я стал тоже делать земные поклоны и понемногу и незаметно стал подвигаться к причту. И опять мама за рубашку одернула меля. Я не сдавался и вновь, кланяясь, двигался вперед. Груня взяла меня на руки, и я увидел, что лоб отца обвит бумажкой и на ней золочеными буквами что-то написано. Отец лежал враждебный, до странности спокойный, сдвинув ноги пятками вместе, очень длинный. Один глаз, правый, был приоткрыт, и отец будто подглядывал, что кругом делается. На него страшно было смотреть, и в то же время он притягивал к себе. Я отворачивался, но жуткое любопытство заставляло меня опять на него взглядывать. И я желал, чтобы отца скорей похоронили. И глядя на мертвое тело я с особей остротой чувствовал себя живой личностью в огромном безбрежном мире, который мне противопостоит.
В церкви я с отвращением приложился к холодным синим губам мертвеца, а Ляля, когда ее поднесли к нему, громко закричала, спрятала свое лицо в плечо Груни и не простилась с отцом.
Когда ящик спустили в могилу и на его крышку посыпались мерзлые комья, мама бросилась в яму, ее схватили за ручку и за бархатную шубейку.
Вечером я спросил старших, что будет с отцом. Мне сказали: настанет время и отец воскреснет.
Я нашел, что так и должно быть и иначе быть не может.
Несколько ночей я боялся засыпать без старших и спрашивал, крепко ли прибита крышка к отцовскому гробу гвоздями.
II. Дедовская Русь
ДЕДА УВИДЕЛ Я ВПЕРВЫЕ после смерти отца. Привезли меня к нему зимним деревенским вечером. Два дня мы ехали в розвальнях. Стояли крещенские морозы и заснеженные, завьюженные поля терялись в нелюдимых, безымянных просторах. Колокольчик звенел дальним, бессильным и одиноким звоном. Казалось, мы навсегда завязли в синих, сыпучих сугробах и никогда не будет конца путям и перепутьям. Мы запоздали, ехали в лесу. Седобородый ямщик Никифор, низко подпоясанный широким красным кушаком, рассказывал матери о северных скитах староверов, куда доходил он в поисках работы и хлеба. Чудилась безгласная таежная глушь, заболоченный край, неведомые тропы, смолистый бор, не тающий сумрак и в полночь, в час страхов и баснословных былей, в час сказочных свершений едва заметное мерцание огня в лесной глубине, островерхая ограда во мхах и в плесени, запушенная снегом, сторожевая башня из толстых дубовых бревен с темными бойницами; там гнездятся желтоглазые филины. За оградой, внутри келий — закопченный потолок, ярый воск свечей, тени и мрак по углам, древние лики святых. В кельях — бородачи-староверы. У них сухие, мертвенные щеки. Глаза ушли глубоко под лоб. Женщины с окаменевшими лицами ступают неслышно и полы их черных одежд распахиваются, точно крылья ночных птиц. Они все «спасаются». Нашинского бога староверы не признают, и это очень дурно, но они не признают также ни исправников, ни урядников. Староверы — бегуны; иногда на них нападают солдаты, они уходят дальше в заповедные леса, а если им некуда податься, то сжигают себя живьем в срубах. Это жутко, но староверы храбрые, и у меня к ним скрытое сочувствие.
— Они бунтуются? — спрашиваю я у Никифора.
Никифор с облучка скашивает глаза:
— Ишь какой вострый! Подрастешь, до всего допытаешься. — Помахав кнутом, прибавляет: — Ах ты, сосунок махонький! Все слыхал. А я думал, ты спишь… Эй, поштенные… — И он начинает длинно и ворчливо корить лошадей.
Я глубже прячу лицо в тулуп. Он славно пахнет дубленой кожей и шерстью. Непонятно, почему рано спрашивать про староверов, бунтуются они или нет. Правда, я еще не взрослый, но умею уже считать. Сколько мне лет? Раз, два, три, четыре, пять… А колокольчик все звенит себе и звенит. Теперь у него почему-то добрый, домашний звон. На сани осыпаются звонкие хрустальные лепестки; это звенят падающие снежинки… Да, я умею недурно считать: один, два, три, девять, двенадцать, пятьсот. Динь, динь, динь! И вот странное и блаженное состояние — я не сплю еще и плечами чувствую спинку саней, мать, Лялю. Сквозь закрытые отяжелевшие веки будто наяву я даже вижу и снег, и лошадей, и Никифора, но меня во всем этом больше нету. Или вернее: и снег, и сани, и лошади, и тулуп, и небо — это и есть я сам, но «я» сам стал себе посторонним, другим, и это так отлично, что мне хочется: пусть это мое чувство продлится как можно дольше. Затем все исчезает, остается одно ощущение теплоты, и тоже меня нет и есть только теплое и уютное, и теплое это — я, и я себе — посторонний, другой… Поднимаюсь, все поднимаюсь по высокой и крутой лестнице, прямо к небу, к золоченым облакам, и чем выше, тем отраднее и легче; несут крылья… я большой, огромный… и все чудесно и непонятно… я добрый… и все…
…Заснул я так крепко, что по приезде меня долго не могли растолкать, и мама даже перепугалась: быть может я замерз… В тулупчике, в платках я походил на узел. Меня раскутали, и я увидел деда. Высокий, костистый, худой, он шевелил нависшими бровями и руки держал за спиной.
На нем обвисал полотняный зеленый подрясник; в белей бороде пробивалась желтизна. От деда крепко пахло нюхательным табаком. Валенки, пожалуй, были выше меня. Я ждал, что дед подойдет меня приветить, но он лишь угрюмо рассматривал меня. Я часто замигал и поправил ременной поясок.
— Здравствуй, дедушка! — прошептал я еле слышно.
Дед засунул руки в карманы.
— Здравствуй, — пробормотал он небрежно, круто отвернулся и направился к выходу. Сутулая его спина заняла двери почти во всю ширину, дед наклонил голову, чтобы не коснуться перекладины.
Я обиделся, тогда-то у меня родилось подозрение, что дед из староверов. Строгий, угрюмый, он тоже «спасается». Заснул я с твердым решением проверить свои подозрения…
…Дед мой в то время уже находился за штатами. Свою младшую дочь Анну он выдал «со взятием», с приходом, с домом, с землей. Зять его, Николай Иванович, отделил деду и бабушке угловую комнату, но строптивый и неуживчивый дед бабушку скоро от себя выгнал, она спала в темной передней, не решаясь к деду даже заглядывать. Деду пошло уже за седьмой десяток и с семинарской скамьи он не прекращал пить горькую. По семейным преданиям, вполне достоверным, дед отличался незаурядными способностями, и после семинарии его назначили в духовную академию, о чем за него хлопотал сам «владыка». Едва ли не в первые дни своего в ней пребывания дед упился и пьяный с поленом гонялся за инспектором, изрыгая непотребные слова и пытаясь изувечить начальника. Деда немедленно из академии исключили и отправили простым дьячком в глухое село. Женившись и получив кое-как приход, дед продолжал запивать. Пил он угрюмо и одиноко, ни к кому из соседей не ездил, не ходил и редко кого принимал, разве только прихожан-грамотеев, да и то с большим выбором. И родных и духовенство дед открыто презирал. Сам я был свидетелем, когда он вмешивался в разговоры старших, если речь заходила о науках и искусствах. Лохматый, хмельной, он неожиданно появлялся в дверях, громко и грубо обрывал и своих и гостей: — «Болтуны, скудоумцы! Не дано вам, скорбные главою, помыслить об этом и… нечего зря языком трепать!..» — Он круто оборачивался, хлопал дверью. Про деда говорили, что он знает древних и новых философов и творения отцов церкви.

























