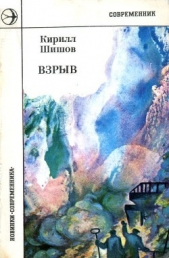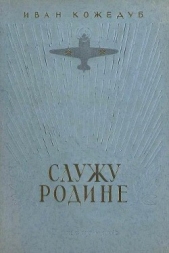Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни
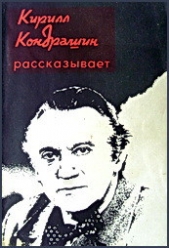
Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Атмосфера в техникуме сгущалась. Я учился хорошо, но чувствовал, что потеряю время, если буду учиться дальше. Я стал думать, что, может быть, мне стоит потерять два года. Хотя такие сомнения и были, времени оставалось мало. Тогда были в моде ускоренные выпуски: мы брали повышенные обязательства окончить техникум не в три года, а в два с половиной, и мне осталось учиться только полгода…
Перейдя на третий курс, я опять пошел к Старосельскому и подал ему заявление: «Прошу меня отчислить из педагогического техникума, так как чувствую у себя призвание быть музыкантом. Педагогика меня не интересует, я не считаю возможным тратить государственные средства на мое образование». (Там ведь даже стипендия давалась.) Я был на хорошем счету, и Старосельский меня горячо обласкал: «Что ты, Кирочка, я помню наш разговор. Сделаем все, но дай заявление, я напишу резолюцию».
Как сейчас помню, что он написал с грамматическими ошибками: «Если вы в течение оставшегося полугода покажите образцы овладения методологией педагогической науки, я не буду возражать против командировки вас в соответствующее учебное заведение».
Он меня просто на голый крючок взял. Я-то считал, что он ответил соответственно моему заявлению. Потом я, конечно, понял, что это была абсолютная липа. Тогда я решил, что еще полгода промучаюсь, и, раз директор обещает дать мне командировку в консерваторию, у меня будет необходимое десятилетнее образование, чтобы поступить. Из-за того, что требования понижались все больше и больше, учиться было легко, и это мне ничего не стоило.
К тому времени Дальтон-план прокляли, и вводились индивидуальные занятия, но требования оставались крайне низкими и, несмотря на ускоренный курс, от такого «учения» ожидать было нечего. Среди наиболее интеллигентной прослойки нашего курса зрело ощущение, что мы формально проводим время. Никто из нас не собирался посвящать себя педагогике. Вокруг были люди, которые собирались стать кто переводчиком, кто поэтом — как Женя Долматовский… а я — дирижером.
Мы друг от друга не скрывали нашего настроения. Прошли три или четыре месяца нового учебного года, и я почувствовал, что все-таки не могу больше учиться здесь. Мне объяснили туманность резолюции Старосельского, да и я его раскусил к тому времени и понял, что на него мне надеяться нечего.
И я написал новое заявление: «Прошу меня более не считать студентом педагогического техникума, так как я не считаю себя педагогом». Оно лежало у меня в кармане, когда шел урок биологии. Я настроился на веселье (у меня в аттестате было написано — «излишне подвижен»). И когда мы препарировали лягушку, я одной из своих приятельниц бросил что-то за шиворот. Поднялся писк, и, естественно, меня выперли из класса. Для студента второго курса это считалось неприличным, и я был предупрежден, что мое поведение будет разбираться на комсомольском собрании.
Я сказал, что не являюсь комсомольцем. Действительно, к тому времени все вступили в комсомол, кроме двух — меня и Виноградова. Я ничего не имел против советской власти и комсомола как такового, но поскольку не собирался стать педагогом и не собирался учиться в этом техникуме, — для меня это было ясно, — то я не хотел вступать в комсомол в этом учебном заведении и все время от этого уклонялся. Виноградов уклонялся по другим мотивам — об этом позже.
Итак, я говорю: «Я же не комсомолец…» Мне отвечают: «Все равно мы тебя приглашаем на комсомольское собрание». Я валандался в коридоре и, ожидая конца этого урока, решил использовать время, зайти к Старосельскому. Не успел я дойти до его кабинета, как мимо меня прошмыгнул секретарь комсомольской организации нашего курса и уже при мне сказал: «Александр Васильевич, я прошу вас прийти на комсомольское собрание, где мы будем разбирать поведение Кондрашина».
— Ты что, хочешь объясниться?
— Нет, я вот принес заявление…
— Сначала посмотрим, что ты там натворил. Я у тебя заявление не приму.
На комсомольском собрании, в присутствии Старосельского, начали выслуживаться наиболее ретивые. Они начали говорить о том, как я себя плохо веду; что я позорю наш курс, который взял социалистические обязательства; что наш курс должен был кончить комсомольским курсом; что вот Кондрашин и Виноградов принципиально не вступают в комсомол и это говорит об их антисоветской сущности, а поведение Кондрашина на уроке биологии говорит об его антисемитизме (этой девочкой оказалась Ляля Шапиро); что он не дорожит честью техникума, и пошло… Я не сдержал своей молодой горячности, встал и сказал, что меня педагогика не интересует, Александр Васильевич об этом знает, поскольку я к нему трижды по этому вопросу обращался и просил его меня освободить от занятий. Больше того, многие из тех, кто здесь сидит и молчит, относятся к техникуму так же, как и я; они на него смотрят как на проходной двор и не собираются в дальнейшем быть педагогами. Я считаю, что гораздо честнее уйти из техникума. Тут поднялась уже склока, потому что я взбаламутил нижние слои. Вскочил Женя Долматовский и сказал, что Кира оклеветал нас. Все знают, как мы любим техникум, стараемся дать стране побольше педагогов… — вообще наговорил кучу общих фраз. Тут не вытерпел Виноградов, встал и сказал: «Женя, утром мы с тобой шли по переулку и ты сказал, что техникум — это дерьмо, употребив более сильное выражение». Тут поднялся вообще визг, моментально нас с Виноградовым выперли из класса, потому что объявили закрытое комсомольское собрание. Я было отправился домой, но вернулся, дождался Старосельского и спросил, как быть с моим заявлением. Он сказал, что будет принято решение и мне об этом сообщат. На следующий день я прихожу в техникум и узнаю, что комсомольское собрание постановило ходатайствовать перед директором об исключении из техникума Кондрашина и Виноградова без права поступления в течение двух лет в любое высшее учебное заведение. Мотивы: антисоветское поведение, антисоветские высказывания и т. д.
Но вокруг уже началось то, чем известны тридцатые годы… Уже оказалось, что нельзя верить людям. В техникуме незадолго до описываемых событий появился новый педагог, некто Савченко, молодой, только что демобилизованный из армии. Даже не помню, что он преподавал, кажется, общественные науки, но он был тоже любитель попеть. Он бывал у меня дома, слушал музыку, и мы стали почти что друзьями, несмотря на то, что он был педагог, а я — студент. И однажды на каком-то уроке я нарисовал Виктора Виноградова (у меня какие-то данные были), и надписал: «Витя Виноградов в 1940 году после попойки», потом подумал, что тогда уже будет социализм, и написал в скобках «социалистической». Мимо проходил Савченко, заглянул…
— Дай мне эту бумагу.
— Зачем?
— Дай мне.
Он взял эту бумажку, при мне ее разорвал и пожурил меня, мол, никогда таких вещей не делай. Я не придал этому значения и только сказал, что шутки могут быть всякие. Когда разыгралась наша история, выступил Савченко и рассказал, «какие шуточки позволяет себе Кондрашин»…
И вот Виктор Виноградов. Это очень любопытный тип, из рабочей семьи. Я у него бывал дома. Отец у него почтенный, хороший рабочий очень высокой квалификации. Но человек довольно старомодных убеждений, которые перенял и Виктор. Поскольку в то время на язык люди были еще более открытыми, то он часто, не стесняясь, поливал советскую власть. Так что, в общем, понятно, что если нас объединяют на основе антисоветских высказываний, то с его стороны их больше. Но вообще-то ярлык «антисоветский» ко мне пришивать было бы совершенно ошибочно, потому что я был абсолютно просоветской ориентации, и, кстати, в свое время состоял в пионерах при Большом театре — это тоже интересная страница. (В возрасте пятнадцати лет меня прикрепили к переросткам.) Любопытно, что в детстве, так как мой отец был религиозен, меня водили в церковь на исповедь и все как полагается. А когда я поступил в пионеры, лет в одиннадцать, то отец, узнав об этом, выпорол меня ремнем. Он считал, что его сын не должен быть пионером. Так что я в общем абсолютно позитивно относился ко всему тому, что делалось. Но в данном случае все свалили в кучу. Кондрашин и Виноградов говорили то-то и то-то, Виноградов однажды сказал, что Маркс — лохматый чудак, написал какую-то чепуху, а нас заставляют учить. Кондрашин целиком солидаризировался с Виноградовым. Они распространяли антисоветские карикатуры.