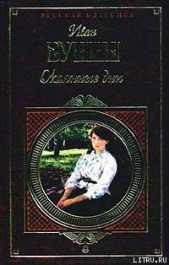Рахманинов

Рахманинов читать книгу онлайн
Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу (1873–1943) — выдающемуся российскому композитору, пианисту, дирижеру.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Только по воскресным дням на папертях Юрьева монастыря, как из-под пепла, вырывалась накипь ушедших веков. Вопили калики, юродивые, плакали бродячие слепцы гусляры, поводыри вторили фальцетом, гнусили и причитали ханжи и святоши.
Среди этой босой, рваной, наглой и довольно буйной орды таилось и горе людское, которому нет ни конца, ни исхода. Оно не вопило и не причитало, а молча глядело на вас в упор сухими, горящими глазами. Тут часто видели высокого щетинистого человека в полукрестьянской одежде с пристальным взглядом немного колючих голубых глаз. Он прислушивался и приглядывался. Бесстрашно садился на паперти среди этой голытьбы. Не глядя на погоду, шагал (как говорили, «шнырял») по деревням и выселкам, разыскивал самых древних стариков и покрытых мохом старух и заставлял их петь и сказывать. Не раз его таскали к уряднику и к становому. Он назывался Иваном Трофимовым Рябининым, показывал какие-то бумаги и был отпускаем с миром.
Побывал Рябинин и у бабушки Бутаковой. Показывал свои новые записи из Заозерья, напевал тихим «душевным» голосом, подыгрывая себе на маленьких гуслях-самогудах. С нежностью вглядывался в Сережу. Острые глаза гусляра лукаво поблескивали из-под косматых бровей. Пел он, легонько раскачиваясь в такт влево и вправо.
Гостя у бабушки, Сергей зимой часто садился за фортепьяно. Иногда играл упражнения, а иногда о чем-то задумывался. Задумавшись, глядел в окошко на тихий зимний день, на кусты, деревья и снежные крыши в легком голубом дыму.
Еще день-другой, и сказке конец. Из Онега Новгород всегда казался сном. А каков он был наяву и что за жизнь там, за стенами андреевского дома, Сережа не знал, потому что был слишком счастлив. Счастье это, как цветные стекла в окнах бабушкиной спальни, до поры заслоняло от него свет, и лишь раз-другой покой души его был поколеблен.
Однажды очень ранней и непогожей весной в дороге с Ульяшей и Гаврилой Олексичем, не доезжая острога, обогнали «кандальную артель». Шли вперевалку, не торопясь, в грубых арестантских сермягах, молча месили мокрыми постолами снег, перемешанный с грязью. Когда Сережа глянул в лица этих людей, синевато-белые, до глаз заросшие колючей щетиной, в глаза пустые и равнодушные, кровь на минуту остановилась в его жилах. Олексич тихонько свистнул. Возок покатился.
Выехав на пригорок, Гаврила пустил лошадей шагом.
— Не по правде живем! Не по правде… — неожиданно и загадочно прогудел он себе под нос.
Бывало с Сергеем так: подхватит на лету непонятную для него фразу и твердит ее про себя несколько дней сряду, как скворец, без всякого толку. Иногда к словам приплеталась какая-то мелодия. Так и на этот раз: «не по правде» долго звучало ему во сне и наяву, как припев будто бы знакомой песни. На звук ее сердце сжималось томительной жалостью. Ему хотелось спросить у Олексича: а как же «по правде»?.. Но он так и не решился.
В другой раз он подслушал взволнованный разговор бабушки с заезжим учителем из деревни Старый Медведь на Ильмене. Учитель был худ, краснонос, бородат и сам походил на рыжего, вконец захирелого медведя. Он непрестанно кашлял, обжигаясь горячим чаем, и горько жаловался на что-то бабушке. Разводил огромными узловатыми руками, лезущими из куцых обтрепанных рукавов, все повторяя: «Горе идет. Горе, бесценная София Александровна… Нужда лютая…»
Какова она, нужда, Сережа не знал, но казалось ему, что он видит ее: сидит она на паперти Юрьева монастыря, бредет в рваных постолах по лужам, заглядывая под стрехи обнажившихся соломенных крыш; то зайдет, крестясь, в избу, где у скорого на расправу отчима живет пастушонок Савка, а то присядет на минутку у рыбачьего костра Федора и Арины. Он догадывался, что и это тоже «не по правде». Томящий, неотвязный напев бродил за ним по пятам.
Весна в тот год случилась ранняя. С выгона снег сошел. Местами ушла и вода до половодья. Ива вдоль ручьев оделась серебристыми барашками. В облачной вышине кричали гуси. По комнатам без помехи, вкруговую, гулял пахучий апрельский сквознячок. Тени облаков бежали по саду. Ветер рябил голубые зеркала луж. Без умолку горланили петухи. На подоконниках голубели подснежники.
В седьмом часу Сережу приодели. Гаврила Олексич подъехал к крыльцу не в тарантасе, а в рессорной, старательно подкрашенной бричке.
Из-под ниши кремлевских ворот дунуло могильным холодом. И вдруг из-за деревьев поднялась София. Солнце садилось в безлиственных чащах за Волховом. Теплым розовым светом апрельского вечера светились глухие белые стены, темным золотом в зеленоватом небе горели купола. Колыхался густой басовитый рев большого колокола.
И эту махину восемьсот лет тому назад своими грубыми, мозолистыми руками сложил Господин Великий Новгород, такие вот рослые, плечистые бородачи каменщики, плотники, бочары, что идут навстречу звону мерным неторопливым шагом, в новых поддевках с цветными опоясками, истово крестясь на купола, могучие, сильные, как Федор, как Гаврила Олексич и рыбачка Арина. Их глаза глядят спокойно и бесстрашно вперед, через века.
Они твердо знают, что слава их города, слава России не может исчезнуть.
Пройдут десятилетия. Эти стены и площади, охваченные огнем, услышат раздирающий сердце вой стервятников с черными крестами на крыльях. И когда дым рассеется и погаснет пламя, внуки и правнуки — новое, незнаемое племя еще не родившихся новгородцев станет бережно, с гордостью и любовью очищать от мусора, шлака и изгари эти святые камни, чтобы наново сложить стены, воздвигнутые гением народа.
Много лет спустя, вспоминая этот вечер, думал Сергей о том, что в баснословно далекие века не было у народа иного средства, чтобы выразить свои думы, надежды и печали, как эти могучие несказанной красоты нефы и архитравы великолепных соборов, как фрески и мозаики эпохи Феофана Грека, былинные сказы и грозные распевы знаменного письма.
Нет, не смирение, не униженная покорность судьбе звучали под сводами Софии, но гнев, но трепет, но скорбь, но гордость и торжество.
И душа Сергея содрогалась до самого дна от радости, страха и красоты.
Это началось, разумеется, не в один день.
Но едва бричка въехала во двор Онега, Сергей в тот же миг почувствовал какую-то перемену. Даже собаки, выбежавшие навстречу, лаяли без всякого одушевления, а так больше — для порядка.
Но суть этой перемены дошла до него не сразу.
Отец показался Сергею озабоченным и рассеянным выше меры. Он, улыбаясь, расспрашивал сына про бабушку, но глаза его блуждали и мысли были заняты иным.
Вечером на другой день Сергей видел из двери гостиной, как отец сидел допоздна у себя, перебирая какие-то бумажки, вздыхал, сутулил плечи и закрывал ладонями лицо.
Еще в двадцатых числах августа пошли обложные дожди. С утра до ночи плыли по стеклам мутные струи. Желтые лужи стояли на дорожках. Когда отворяли балконную дверь, из сада тяжело и остро пахло сыростью и цветами.
Особенно тоскливо бывало по ночам. Шуршало на потолке, скрипели половицы. В доме поселилась, по возможности скрываемая от детей, глухая тяжелая ссора. Василий Аркадьевич по складу характера не мог долгое время предаваться тайным заботам и вдруг, словно спохватившись, оглашал притихшие пасмурные комнаты каскадами бравурных импровизаций. Тогда неподвижное, застывшее лицо матери вспыхивало красными пятнами гнева и обиды.
Однажды ночью Сергей проснулся в страхе.
Сердце колотилось. В груди сжался холодный комок. Из отцовского кабинета долетали дикие истерические выкрики, звон разбитого стекла, и в наступившей тишине раздался глухой и унылый женский плач.
Сергей дернул за одеяло брата.