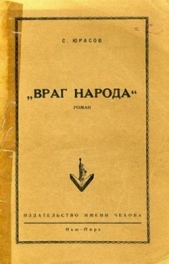Мои воспоминания

Мои воспоминания читать книгу онлайн
В тексте есть многочисленные лакуны.
Детство и школьные годы - Юношеские годы. Революция - Годы военного коммунизма - Время НЭПа - Ссылка на Соловки - Верхне-Уральский изолятор - В ссылке в Чимкенте - По *минусу* в Рязани - На нелегальном положении - И опять в тюрьме - Суздальский политизолятор - 1937 год - Последний этап на Колыму - На Колыме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А игра в «кошки-мышки» или в каменную стену! Уж эти-то игры я знала хорошо. В них мы играли с деревенскими ребятами на выгуле. Я твердо знала, что играть надо честно, с полным напряжением сил, не поддаваясь никому. И что же! Когда я пнула коленкой кошку, противозаконно пытавшуюся поймать мышь, меня вывели из круга, заявив, что я вовсе не умею играть прилично, что благовоспитанные девочки не лягаются как лошади. Когда я, играя в «каменную стену», ударом наотмашь, разрывая стену, ушибла руку одной из девочек, меня вывели из круга, потому что я — сорванец. Наконец, когда меня поставили петь в хоре и я, вольно вздохнув, дала полную силу всем своим голосовым связкам, меня выставили из хора.
Нельзя было в разговоре со старшими, пожимать плечами, выражая недоумение, нельзя было сказать «черт его дери», нельзя от души расхохотаться, нельзя ходить, топая ногами, размахивать руками. Надо быть благовоспитанной, а не сорванцом. О, Боже мой! Конечно, я была за равноправие, и с каким восторгом я приезжала в мой родной Сорочин. Вот мы вылезаем из поезда, вот уселись на линейку, выехавшую за нами на станцию. Безбрежная ширь полей, ширь неба. Ветерок свежий треплет волосы, пой полным голосом, чтобы грудь разрывалась, что хочешь и как хочешь, без мелодий, без мотива, во что горазд. И пели же мы! Пели так, что теперь мне трудно представить, как это пение выдерживали и конюх, и лошади, и линейка.
Встал передо мной вопрос о равноправии и с другой стороны. В городе с нами жила всегда наша прислуга Акулина. Она убирала комнаты, варила обед, стирала белье и жила на кухне. В то же время она являлась непременным членом нашей семьи. Всего она прожила у нас 22 года, и поступила к нам еще с моего рождения. Жила она у нас со своим сыном Колей, товарищем наших детских игр.
История Акулины была такова: черноглазую, полногрудую, напропалую веселую шестнадцатилетнюю девушку выдали замуж за пропойцу, и чуть ли не с первых дней он начал бить ее «смертным боем».
Старалась она к нему всячески приспособиться, но не смогла: то бил он ее под пьяную руку за то, что много зубы скалит, то за то, что больно грустна и тиха.
Выдержала Акулина эту замужнюю жизнь ровно два года, а на третий, когда муж чуть не зарезал ее ножом, убежала, вырвав из мужниных рук нож. Нож она вырвала, схватив его за лезвие и перерезав себе сухожилия так, что всю жизнь пальцы ее на правой руке не сгибались и не разгибались до конца. Выкрав потом у заснувшего мужа сынишку, Акулина ушла жить в люди.
Тяжелая жизнь выпала на долю этой молодой женщины. Откуда черпала она неисчерпаемый запас бодрости и веселья! Где была Акулина, там были шутки и смех. Нашими детскими сердцами она владела полностью, да и как могло быть иначе, такой затейнице в плясках, шутках, песнях, гаданьях и прибаутках — да не овладеть детскими сердцами! Но она овладевала и сердцами взрослых. До нас Акулина сменила ряд хозяев. В одном доме жена приревновала ее к мужу, в другом — надоели требования ее мужа, чтобы ему ее выдали, в третьем… Это ее приключение я расскажу подробнее:
— Поступила я на работу к начальнику станции, — рассказывала она нам. — Немолодой он был, одинокий, холостой. Хозяйство небольшое, работы немного — ни кур не держал, ни коровы, ни свиней. А жил хорошо, богато жил, и Колю моего любил, ласкал. И веселый был, шутник тоже, но баловства ни-ни, этого себе не позволял. Живи да и только.
— Так чего же ты от него ушла? — торопили мы много раз слышанный рассказ.
— Как-то забывчива я была. То то забуду, то это не сделаю — все сходило. Одно он требовал, чтобы к обеду всегда была рюмка водки. А я забывала вовремя купить. Хвать к обеду за бутылку, а она пустая. Как-то тоже так случилось, он и говорит:
«Научу я тебя, Акулина, не забывать, раз слов не слушаешь — всю жизнь помнить будешь». Я спрашиваю: «А как же вы меня научите, если у меня память такая?» — «Тогда сама увидишь». Я не поняла даже, шутит он или всерьез стращает, только ко вниманию приняла. Как обед собирать, так проверяю, есть ли водка. Нет — бегом на станцию. Там лавчонка была и приказчики веселые ребята были, по правде сказать, бегать-то туда я любила. Дома все одна да одна, а на станцию сбегаешь, все развлечение. Долго я после этого разговора продержалась, месяц, наверно, а то и больше, а тут — забыла, что хочешь, забыла поглядеть. Пустую-то бутылку на стол поставила, а сама на кровать на кухне прилегла, да и заснула. Просыпаюсь — кто-то меня за плечо трясет. Подскакиваю — барин! В руках пустая бутылка из-под водки. Сует он мне ее в руки. «Ты что же это, опять пустой бутылкой угощать хочешь! А ну, марш на станцию. Слетай мигом, а то мы спешим». Я за бутылку и — бегом, только платочек на голову набросила. Бегу, думаю, хорошо, что с гостем да веселый, а не то попало бы мне. Бегу, разгорячилась, день жаркий был, только пот рукой вытираю. Народу в лавке, как на грех, много. Протиснулась к прилавку, прошу — Афанасий Иванович, дайте, за ради Бога, поскорее бутылочку водки, а он как-то странно мне в глаза глянул. Подает бутылку и говорит приказчику: «Дай-ка мне, Семен, зеркальце, я красотке подарить хочу». Не успела я опомниться, как под самый нос мне зеркальце подводят. Глянула я, Господь мой Спаситель, лицо мое все как есть сажей измазано, где кружки, где подтеки, живого места нет. Не помню, как я из магазина выскочила, и зеркальце в руке, и бутылку к груди прижимаю, а за собой только слышу смех да хохот. Прибежала домой сама не своя. И бутылку, и зеркальце в кухне на столе бросила, и у себя в горнице заперлась. Бросилась на кровать и реву, разливаюсь. Уж как они там отобедали, не знаю. Три раза ко мне стучали, только я не отперла. Так они и на работу ушли. Сынок Коля жмется ко мне:
«Мамка, мамка, чего ты?» А я только сажу по лицу руками растираю. Ну уж, думаю, погоди ты. Три дня терпела. И он ничего, молчит, только ухмыляется, черт, охальник. Три дня вытерпела, но думаю — вовек не забуду и ты, начальничек, попомнишь. На третий день, только он, пообедавши, прилег отдохнуть, да как следует расхрапелся, взяла я уголек из печи поаккуратнее да всю его морду и расписала. Сама дрожу, а не отступаюсь. Фуражку его начальническую захватила и бужу. У самой от страха зуб на зуб не попадает. Все равно бужу:
«Барин, а барин, на станции что-то стряслось — срочно вызывают». Вскочил он, глянул на меня, а на мне, видать, лица нет. Схватил фуражку и за дверь. Только выговорил: «Пассажирскому время».
Тут Акулина смолкала, а мы настойчиво требовали продолжения. Мы так ясно представляли себе, как начальник станции появился на перроне с размалеванным Акулиной лицом. Мы требовали продолжения, мы гордились поступком Акулины. Но Акулина заключала ворчливо:
— Чего-чего, выгнал он меня с Колей в один момент, вот чего.
Живя у нас, Акулина не прекращала шутить и озорничать. Романов у нее было не счесть числа. Стражники, ломовые, извозчики сменяли один другого. Увлечения были и легкие и серьезные. Поплакать она тоже любила. Слез, как и смеха, у нее было море разливанное, причем она очень легко переходила от одного к другому. Раз или два в год к нам являлся ее законный муж и требовал ее к себе. В этих случаях ее отчаяние и страх были так глубоки, что мы, дети, ходили потерянными целыми днями. Жила Акулина у нас без паспорта. Муж имел право затребовать ее к себе. Отец и мать всегда как-то улаживали этот вопрос, но до самой революции Акулина жила под страхом бесправия русской женщины, дрожала за свою судьбу и за судьбу своего сына.
Еврейское происхождение отца, жизнь с нами бабушки и дедушки наложили свой отпечаток на нашу семью. Религии для отца в обычном понятии этого слова не существовало. Мать как-то по-своему верила в Бога, но детьми мы этого не ощущали. На Рождество, на Пасху, в какие-то двунадесятые праздники к нам в деревню заезжали поп с дьяконом. Приезды эти вызывали некоторую суматоху. Бабушка и дедушка уходили в свою комнату: мы, вся детвора, стремились сбежать, но отец с матерью ловили нас и требовали нашего присутствия. Войдя в дом, поп здоровался, а потом сразу, облачившись, становился перед иконой, висевшей в углу в столовой, и быстро и протяжно произносил какие-то молитвы, дьячок вторил ему, подтягивая. Понять слова произносимой молитвы я не могла. По окончании молитвы начиналось крестоцелование. Руки у священника были жирные, потные, крест почти утопал в них и все мы, дети, с отвращением прикладывались к кресту плотно сжатыми губами. После исполнения всех формальностей поп снимал облачение, появлялись дедушка и бабушка, и все садились к столу. Попу и дьякону подносили по рюмке водки, подавался обед или закуска. Посидев полчасика, поп уезжал. Кажется, отец давал ему еще какие-то деньги. С родителями мы мало говорили, но крестьянство попов не любило. Акулина, да и другие крестьяне рассказывали нам много комических рассказов об их алчности и скупости. Вот стишок, который был очень популярен среди наших крестьян: