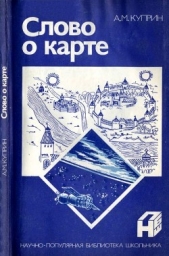Раскрепощение
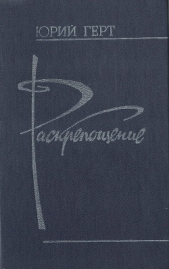
Раскрепощение читать книгу онлайн
Предлагаемая книга - целостное, внутренне последовательное повествование о происходившем в стране, начиная с тридцатых годов двадцатого века и кончая началом девяностых годов. Автор не экономист, не историк, а писатель, его внимание сконцентрировано на людях, с которыми его сводила судьба. В первой части публикуются воспоминания врача В. Г. Недовесовой о Карлаге, о репрессированных ученых, Чижевском, Белинкове. Во второй части рассказывается о Казахстане 60-х годов, трудовом и литературном. Это, с одной стороны, Казахстанская Магнитка, с другой, журнал «Простор», объединяющий в себе лучшие литературные имена — Шухова, Домбровского и других.Третья часть — осмысление писателем событий сегодняшнего дня, когда происходит воскрешение творчества Магжана Жумабасва, Анны Никольской.В книге широко использованы письма, документы, мемуары.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Со всей страны в Темиртау шли эшелоны — демобилизованные солдаты, вчерашние школьники, белорусские и молдавские крестьяне, московские метростроевцы ехали по комсомольским путевкам возводить первую домну на Казахстанской Магнитке. С нею связано было одно из первых моих редакционных заданий, я выполнил его в кратчайший срок и вернулся с таким чувством, как если бы фронтовым корреспондентом принял участие в разведке боем.
Бруно Ясенский и Бабель, «Испанский дневник» Кольцова и Xэмингуэй, его «Старик и море», и «Три товарища» Ремарка, и «Штандарт млодых», польская молодежная газета, из которой Геннадий Иванов, мыча и запинаясь, переводил на ходу статьи во время редакционных летучек — все это было воздухом, которым дышали наши легкие.
Но в нем была не только бодрящая свежесть — была и горькая, хорошо различимая гарь, и запах гниения, и едкий, раздирающий горло туман... Речь Хрущева на XX сьезде партии откликнулась на Западе венгерскими событиями и танками на улицах Будапешта. Вскоре после этого, приветствуя Чжоуэньлая, Хрущев произнес: «Дай бег нам всем быть такими же марксистами-ленинцами, как Сталин...» Вслед за вполне понятными после разоблачения величайшего Гения Всех Времен и Народов рукоплесканиями в честь романа Дудинцева «Не хлебом единым», после захлебывающихся от восторга рецензий по литературе прошелся хорошо знакомый с прежних времен, тяжелый коток, отлично приспособленный для того, чтобы на месте только-только начавших набирать силу зеленых всходов оставить мертвую, залитую черным гудроном полосу. Симонов, будучи редактором «Нового мира» напечатавший Дудинцева, каялся в допущенной ошибке. Пропаганда, слегка пожурив недавних «лакировщиков», с привычной страстью принялась грызть нынешних «очернителей». Погрозив пальчиком догматикам-сталинистам, она тут же яростно набросилась на ревизионистов — сначала югославских, с которыми вроде бы после смерти Вождя помирились и даже облобызались, а затем — и наших, отечественных. Какая-то сложная, драматичная борьба происходила «наверху», мы о ней лишь догадывались, но что такое — разгромленная «антипартийная группа» во главе с Молотовым и Маленковым, чего она добивалась — этого мы толком не знали и знать не могли. После прогремевшего на весь мир доклада Хрущева в 1956 году правда о Сталине, о прошлом страны выдавалась гомеопатическими дозами, дразнившими аппетит, но не способными его насытить. Тем меньше могли мы разобраться в том, что происходит вокруг, и старались верить лишь собственным глазам и фактам.
А факты были таковы. В нашей газете развернулась дискуссия о том, как вывести комсомол из состояния столбняка, раскрепостить молодую энергию, взломать канцелярщину и бюрократизм... Но нас тут же одернули, обвинили... Теперь уже не припомнить, в чем именно, да это и не важно, важно, что обвинили. Газета напечатала материал: «Анастасия Петровна хочет жить по-человечески» — о матери-героине, которая вместе с мужем и десятью детьми жила в единственной комнатенке, сырой, с протекающей крышей — в шахтерском Старом городе. На бюро обкома «Комсомолец Караганды» обличили в демагогии, редактору впаяли выговор. Правда, газету нашу, и в частности, тот номер, читали вслух, толпясь у киосков «Союзпечати», а спустя какое-то время Анастасия Петровна — крупная, гренадерского роста женщина — пришла к нам вместе с невысоким, застенчиво выглядывающим из-за ее могучей спины мужем пригласить редакцию на новоселье... Это радовало, но не прибавляло ясности, не смиряло гнездящейся в сердце тревоги...
Между прочим, об Анастасии Петровне в нашей газете написал Дикельбойм. Поэтому на новоселье, дабы не ввергать хозяев в непомерные расходы, мы делегировали двоих — его и, понятно, Геннадия Иванова. На новоселье Лева изрядно выпил и потом с неделю ходил, держась ладонью за правый бок: у него была больная печень. Он и умер лет через десять — «от печени». «У меня — пэ-чень»,— говорил он посмеиваясь. Заболела она у него еще в трудармии, когда Лева, в латаной-перелатаной фуфаечке и пропускавших воду бахилах, перекрученных проволокой, рубал уголек в карагандинской шахте. Он был из семьи бессарабских евреев-коммунистов, отведавших прелестей румынской сигуранцы и с надеждой взиравших на Советский Союз. После возвращения Бессарабии СССР в 1940 году и начала войны Леву призвали в трудармию. Там случился конфликт: командир отделения обозвал его жидом, и Лева, оскорбленный не столько за себя, сколько за пролетариев всех стран, бросился на него с кулаками. Возникло «дело», командир отделения доказывал, что Лева румынский и одновременно немецкий шпион, по законам военного времени за это полагался расстрел, в ожидании его Лева поседел. Но его не расстреляли, а отправили в Караганду. Он рвался на фронт, но оказался в забое, по сути — на положении зэка...
Чиня шахту, так сказать, «на ощупь», Лева заведовал в редакции отделом рабочей молодежи. Газета была его страстью; опыт жизни не пригасил его фантазии. Себя он считал человеком трезвой практической мысли, презирая всякое подобие «лирики», но, на мой взгляд, был романтиком чистой воды. Как-то раз он рассказал мне свою историю. «Может быть, тебе на что-нибудь когда-нибудь пригодится»,— заключил он, чтобы как-то мотивировать внезапный порыв откровенности.
Своего квартирного хозяина мы называли «старым добряком». По нашим тогдашним меркам он в самом деле был староват — ему было лет сорок пять — пятьдесят. А уж «добряк»... Рожа у него была круглая, красная, веки набрякшие, белки глаз — розовые, особенно по утрам, с перепою. Глазки — маленькие, светлые, злобные, и сапоги гармошкой. У него было трое детей, которых, напившись, колотил он зверски, первую жену свел в могилу, взял вторую, красивую, статную, с широкими бровями вразлет на милом, добром лице. На ней лежало все хозяйство, бесконечные обиды и побои сносила она безропотно — и терпела, терпела, жалко ей было бросать неродных детей... Дети ее держали, да и страх — не было у нее ни единой близкой души, куда ей было идти?..
Я ненавидел нашего «старого добряка» — за всегда испуганных детишек, при появлении отца норовивших забиться в любую щелку, за кроткую, всегда покорную красавицу Полину, на которую он, распалясь, кидался с ножом; за то, как измывался он над своими квартирантами. Помимо нас у «добряка» снимал глинобитную пристройку и Толя Галиев с женой Таней, недавно приехавшей из Китая, у нее экзотичной была не только биография, внешность тоже — толстые, будто налитые вишневым жаром губы негритянки, которыми постоянно восторгался Толя, огромные синие глаза и талия стрекозы... После того, как наш славный «добряк» потребовал, чтоб квартиранты свое белье стирали во дворе и я однажды застал жену за этим занятием на продиравшем до костей ветру, перемешанном с осенним дождем, я решил: довольно, хватит... Вскоре мы распрощались с нашим «добряком»,— и мы, и Галиевы, но там, в доме, где мы выдержали только полгода, все осталось по-прежнему... Пьянки, драки, вопли детей... И еще — песни, похожие на тоскливое волчье вытье. Пенье это, особенно поздним вечером или ночью, сводило с ума, хотелось заткнуть уши и бежать куда глаза глядят — от не задерживающей звуков тонкой двери, за которой, навалясь на стол, одиноко сидит старый— а на деле совсем еще не старый, а в самом соку, самой силе человек — и, обхватив руками голову, слепо уставясь на недопитый стакан водки — не поет — воет...
О чем он пел, о чем выл?..
Михайловка, Тихоновка, Федоровка — так назывались некоторые районы Караганды, прежде — поселки, села, куда свозили раскулаченных, спецпереселенцев. «Старый добряк», это мы знали, из них. Если в 1957 году ему было сорок пять — пятьдесят, то, скажем, в двадцать девятом — в «год великого перелома» — семнадцать-двадцать. Как их везли — откуда-нибудь из-под Курска или Воронежа? Кто выжил, кто загнулся в дороге? Семьи были немалые, а значит — ехали и дети, и старики, и крепкие, и хилые, и занедужившие в пути... И что случалось дальше, потом?..
Не знаю, не знаю... Об этом я стал задумываться много позже; А тогда... Он пил, колотил своих детей, выставил мою жену из дома — на ветер, на холод, когда с черного осеннего неба моросил дождь... Я его ненавидел.