Оставшиеся в тени
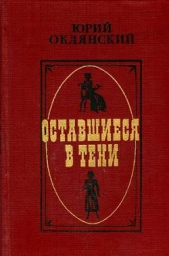
Оставшиеся в тени читать книгу онлайн
Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но дело заключалось в том, что их необыденная любовь продолжалась до смерти.
Насколько мать вообще может стать для сына вторым «я», она была им в жизни А. Толстого. Все ее письма, дневники полны Лелей. Перед интересами сына всегда отступали ее собственные интересы. Ради него она без звука откладывала в сторону дело своей жизни — творчество. В ее письмах к Бострому часты такие строки: «В то время, когда я писала повесть, я много упустила по Лелиному учению… Нет, я вот что решила — пока… ничего не буду писать, чтобы не отвлекаться от него…» (Письмо без начала, по-видимому, февраль 1894 года.)
Из переписки Александры Леонтьевны и А. А. Бострома рвутся настоящие стоны по поводу разлуки, которую им приходится терпеть из-за того, что она живет то в Сызрани, то в Самаре вместе с поступившим в реальное училище Алешей. Она тосковала, томилась, беспокоилась — как он там, что с ним? — за своего Алексея Аполлоновича. Неблагодарный Лелька не хотел понять, чем жертвуют для него. Он плохо учился, дерзил училищному начальству. Однажды, при получении известия о веренице Лелькиных двоек и «без обеда», Алексей Аполлонович не сдержался. «…Я не мог тогда приписать к письму, как хотел, не мог, у меня в груди бурлило, боялся написать нехорошее. И теперь боюсь даже спрашивать, как пошло дальше. Неужели такова будет плата за нашу разлуку…» (А. А. Бостром — А. Л. Толстой, сентябрь 1897 года). Таких взрывов чувств Алексей Аполлонович больше себе не позволял. Мальчика он любил как родного сына. Но послания, в которых сквозила плохо спрятанная тоска, часто летели из Сосновки в годы их разлуки, прерываемой лишь краткими наездами Бострома и каникулами.
Конечно, в Самаре было немало надежных опекунов. Да и от Сосновки до города не так уж далеко. Сколько раз утешалась этим Александра Леонтьевна, давая себе слово, что нынешняя зима будет последней. И тогда пропадет нужда в мучительной, бесконечной разлуке, в этих письмах, которые они даже нумеровали — № 1, № 2, № 3… — с невеселой шуткой, словно провожая этими номерами уходящие друг без друга дни. Но очередная осень снова заставала ее вздыхающей над строчками, которые выводила рука… У нее было «два Лешуры», но долг звал ее безотлучно находиться при том, который больше в ней нуждался…
Мать была не докучливым наставником, а авторитетом, чутко улавливавшим малейшие перепады в настроениях и склонностях подростка, а затем юноши. И неуступчивым только в одном. Главное — это взгляды, определенные убеждения, без которых нет человека. На этом она стояла всегда.
Хорошо, если бы у юноши подобрался круг знакомств, в котором бы молодежь не только пустоплясничала, но и приобщалась к серьезным интересам. Она делает свою снятую в Самаре квартирку местом, где может собираться кружок сверстников А. Толстого. «В воскресенье хотят прийти ко мне, чтобы почитать вслух… Угощу чаем, яблоками, и будет. Надо, чтобы было дешево и доступно. Привезешь фортепьяно, будет молодежь музицировать. Пускай веселятся. Привези с собой Добролюбова (сочинения, 4 тома)…» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 22 сентября 1899 года). Четыре тома Добролюбова кажутся ей необходимым добавлением к музыке и танцам!
Она прислушивается к юношеским спорам об альтруизме и эгоизме, в одном из которых Толстой доказывал, что «не альтруисты, а эгоисты двигали прогресс», и что «массы, двигавшие историю и прогресс, сами-то двигались не филантропическими идеями, а побуждениями эгоизма» (A. JL Толстая — А. А. Бострому, 3 ноября 1899 года). И тут же Александра Леонтьевна использует этот повод, чтобы помочь сыну освободиться от абстракций незрелого юношеского мышления, пробудить у него интерес к современной социологии, где сама она, наряду с народническими, разделяла и некоторые марксистские идеи. Она продолжает в том же письме, видимо, уже после разговора с сыном: «…Ему хотелось бы коротких, ясных статей, вроде статьи в «Жизни»… Привези, пожалуйста, с собой «Жизнь». Говорят, в последней книжке очень интересная статья «О материалистическом понимании истории…» Журнал «Жизнь», который она просит для А. Толстого, хорошо известен. Это орган легального марксизма, но в нем участвовали и революционные марксисты. В 1899–1900 годах публиковались там и статьи В. И. Ленина, а литературный отдел фактически вел А. М. Горький…
В ее письмах-напутствиях сыну выражен и целый кодекс нравственных убеждений, которому она строго следовала всю жизнь сама. Она была убеждена, что эгоист, живущий для одного себя, «…это все равно как человек без зрения и слуха… Я, скорее, соглашусь быть страдающим человеком, чем торжествующей свиньей» (А. Л. Толстая — А. Н. Толстому, 4 июля 1900 года). Ей, дворянке из родовитой семьи, бывшей графине, была навсегда отвратительна барская спесь и снобизм аристократов. В жизни она была труженицей, демократкой, разночинной.
Летом 1901 года она остерегала восемнадцатилетнего студента-сына, который вместе с наследством от отца фактически воспринял и титул графа: «Просто непереносно видеть, когда более сильный измывается над слабым. К сожалению, так сложились обстоятельства, что тебе особенно надо беречься этого страшно ненавистного всем порядочным людям положения. Твой титул, твое состояние, карьера, внешность, наконец, — большею частью поставят тебя в положение более сильного, и потому мне особенно страшно, что у тебя разовьется неравное отношение к окружающим, а это, кроме того что некрасиво, не этично, — это может привести к тому, что, кроме кучки людей, окружающих тебя и тебе льстящей, ты потеряешь уважение большинства людей, таких людей, для которых положение не есть сила». И еще раз она советовала начинающему студенту Петербургского технологического института: «…Мне кажется, что твой титул, твоя одежда и 100 р. в месяц мешают пока найти самую симпатичную часть студенчества, нуждающуюся, пробивающуюся в жизни своими силами» (A. Л. Толстая — А. Н. Толстому, 18 октября 1901 года).
Таким исполненным демократизма и гражданственности письмам нет конца. И это влияние матери не проходило даром. В начале 900-х годов юный Толстой вручил журнальному критику Корнею Чуковскому «полное собрание неизданных и до сих пор никому неизвестных» своих сочинений (двенадцать тетрадей, по 200–300 страниц в каждой, заполненных прозой и стихами). Полвека спустя, перечитывая сохранившиеся тетради, К. Чуковский писал, что в них «…чудилось старозаветное гуманное влияние матери, закваска народолюбивых семидесятых годов». И подчеркивал: «…Мне кажется, тот ничего не поймет в Алексее Толстом, кто забудет об этом длительном периоде его умственной жизни» (К. Чуковский. Из воспоминаний. М., Советский писатель, 1958, с. 275).
Знакомясь с новыми архивными материалами, видишь, как верно это наблюдение критика. Даже в своей первой книге «Лирика» (1907) Толстой, оказывается, не только подражал модному символизму. Во всяком случае, в первоначальном замысле он ставил для себя несколько иную и, прямо скажем, фантастическую цель — соединить Некрасова и Бальмонта. Об этом можно судить по очень важному для нас письму из числа обнаруженных в Куйбышеве. По-видимому, в конце 1906 года А. Толстой сообщал отчиму:
«…Я, знаешь, думаю выпустить сборник своих стихов… Итак, благослови мой первый шаг. Все-таки страшновато. Конечно, приступлю к осуществлению не раньше января или февраля месяца.
В газетах помещать очень не хочется, нужно приноравливаться к условиям и требованиям ее, писать, не дописывая, говорить, не договаривая.
Только не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; я выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и Бальмонтом, говоря примерами, и думаю, что это самое подходящее.
Исходная точка — торжество социализма и критика буржуазного строя… Мне обидно за наших поэтов — Ницше утащил их всех «в холодную высь с предзакатным сиянием»… К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с гом Каутским, и поэтому я избрал себе таковую платформу…»
И если А. Толстой довольно быстро расквитался с символизмом и вскоре связал свое творчество с реалистическим направлением, став беспощадным критиком помещичьего класса России, то в большой мере он обязан этим, по словам К. Чуковского, предшествующему длительному периоду его умственной жизни.


























