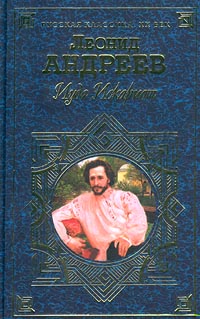Воспоминания
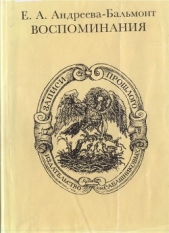
Воспоминания читать книгу онлайн
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (1867–1950), жена известного русского поэта К. Д. Бальмонта, благородная и обаятельная женщина, обладала живым и наблюдательным умом и несомненным литературным талантом. Это делает ее мемуары — бесценный источник по истории русской культуры и быта сер. XIX — нач. XX вв. — предметом увлекательного чтения для широких кругов читателей. Воспоминания Е. А. Андреевой-Бальмонт, так же как и стихи и письма К. Д. Бальмонта к ней, напечатанные в приложении, публикуются впервые. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного архива А. Г. Андреевой-Бальмонт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К концу лета на даче у нас начинали его поджидать. Я очень волновалась. В день, когда он должен был обедать у нас, я не могла его дождаться, смотрела на часы и потихоньку от всех бежала к воротам ему навстречу, чтобы первой его увидеть. И вот он появлялся в своей неизменной черной крылатке, в невысоком цилиндре, с сигарой во рту. Этот знакомый запах сигары всегда вызывал в моей душе образ моего покойного отца и потому особенно был приятен. Риццони вынимал сигару изо рта, целовал меня в голову, и мы за руку с ним шли на крыльцо. За столом я не сводила с него глаз, и он иногда, поглядев в нашу сторону, улыбался мне.
Когда он познакомил старших сестер с семьей Павла Михайловича Третьякова [62], то настоял, чтобы и меня взяли к ним; у Третьяковых были две девочки, и как раз моего возраста: Вера и Саша. Мы поехали в большой нашей коляске вчетвером: Риццони, мои две старшие сестры и я — в Кунцево, где жили Третьяковы летом. Это было через год после смерти отца. Мы были еще в полутрауре. На меня надели серое барежевое платье с лиловыми шелковыми бантами. Оно, верно, было очень некрасивое, девочки Третьяковы, поздоровавшись со мной, оглядели меня со всех сторон. «Почему ты одета как старушка?» — «Почему как старушка?» — «Потому что дети не носят лилового». Я этого не знала. «И какая длинная юбка! Вот смешно!» И они громко засмеялись. Они смеялись надо мной. Что мне было делать? Если бы это было дома, у нас, я бы бросилась и избила их. Но в гостях у них я растерялась, не знала даже, что сказать этим нарядным девочкам в коротких белых платьях, с большими бантами в распущенных волосах.
Потом они побежали к большим, я поплелась за ними, еле сдерживая слезы. Прибежав на балкон, где уже садились за стол, девочки подбежали к Риццони, стали теребить его, болтали и шутили с ним, как с каким-нибудь мальчишкой, своей ровней. Это с Риццони!
За столом он вдруг обратил на меня внимание. «Что это с моей итальяночкой, она на себя не похожа, почему глазки потухли?» Все на меня посмотрели. Я чувствовала, что краснею все больше и больше, еще минута — и я заплачу. Но тут на второе подали блюдо, мною никогда не виданное: зеленые кустики с обрезанными листочками. Я отказалась от них, сказав, что я сыта, но на самом деле я боялась, что не справлюсь с ними. Как это надо есть? И действительно, это было очень сложно. Я видела, как другие брали артишок с блюда серебряной лопаткой, затем пальцами отрывали от него листок, окунали кончик каждого листка в соус и сосали его. Когда все листочки были ощипаны, на тарелке оставался мягкий кружочек, который резали серебряной вилкой на кусочки и съедали тоже с соусом. Меня очень заинтересовала эта процедура. «Est-ce que ce fruit ressemble à l’ananas [63]?» — спросила я m-lle, француженку, сидевшую рядом со мной. Девочки громко засмеялись: «Elle s’imagine que c’est un ananas, un fruit!» [64] Они вторично насмехались надо мной! Но тут за меня вступился Риццони. «Что же удивительного, в России еще нет артишоков, я только у вас и ем их, а в Италии у нас они растут в огородах, как у вас капуста, и все бедняки их едят».
После обеда мы пошли гулять. Мне было очень скучно, и девочки, видимо, тяготились мной. На обратной дороге Риццони взял меня и Сашу Третьякову под руку. «Я уверен, — сказал он, — что вы подружитесь, девочки, вы обе шалуньи. Ну-ка, кто первый добежит до балкона?» Мы побежали, и я, забыв свои обиды, свое некрасивое платье, бежала изо всех сил и намного обогнала Сашу. Перепрыгивая через две ступеньки, я вбежала на балкон и встала. «До балкона, до балкона был уговор», — кричала, запыхавшись, Саша. Тогда я, не задумавшись, спрыгнула с высоты восьми ступеней балкона и очутилась рядом с Сашей. «Браво, браво!» — закричало все общество. Я больше всего была счастлива тем, что он видел мой триумф.
По дороге домой в полной темноте я дремала в коляске и в уме перебирала этот счастливый день: сколько раз он обращался ко мне, как на меня смотрел, что говорил, как засмеялся, когда я, неожиданно для всех, соскочила со ступенек… Ну и что же, что на мне было безобразное платье, что я не знала, что такое артишоки… Для художника все это не важно.
Когда наступили последние дни перед его отъездом в Рим, я уже заранее страдала от предстоящей разлуки. Однажды, только что простившись с ним, я вернулась к себе в детскую и долго плакала. Моя милая Анна Петровна утешала меня. Между прочим, она сказала мне: «Ну что такое, что он художник; такой же человек, как и все, да еще старый и некрасивый, твой Риццони». Мое возмущение не знало границ: художник именно не такой, как все, художник совсем особенный человек. Я не знала, как определить особенность художника. В это время как раз Анна Петровна опускала ноги в медный таз с горячей водой. «Вот, — сказала я, — это гадость ваши ноги и этот таз, а если художник напишет их — это будет картина, и это будет красиво». — «Ах, какие глюпости, — возмутилась немка, — какой художник будет рисовать, как я мою свои грязные ноги». Я смутилась, но, подумав, нашлась: «А что такое — сидит кошка на бочке, а около стоит мальчик, расставив ноги, и смотрит на нее? А это знаменитая картина, которую Риццони писал семь раз и продал в Америку и другие страны, и получил за нее много, много денег». На Анну Петровну последний довод, что искусство не только ценится, но и оплачивается, подействовал очень сильно. Она замолчала, потом со вздохом сказала: «Ja, der Mann muß reich sein» [65].
Моя влюбленность с годами не проходила. В одиннадцать — двенадцать лет я уже сознательно хотела ему нравиться. Обращала внимание на свои летние платья, которые он может увидеть. Надевала красный галстучек, который, я была уверена, делал меня неотразимой, перед зеркалом приглаживала свои вихры. Очень усердно играла на рояле, потому что он раз сказал: «Ты мило играешь, сыграй мне что-нибудь», но потом он, видимо, забыл и никогда больше не говорил о моей музыке. Но это было понятно. Он сам был прекрасный музыкант. Он часто играл у нас или свистел под свой аккомпанемент. Так он раз просвистел романс «Ночь», тогда только что написанный Антоном Рубинштейном, который Риццони слышал от самого композитора, своего приятеля. На меня тогда этот романс произвел потрясающее впечатление и остался на всю жизнь моим любимым.
Разговоры же Риццони были для меня мало занимательны. Он всегда ругал Россию, ее «проклятый климат», жаловался на ревматизм, полученный им здесь. Саша заступилась за Москву; ревматизм он нажил в своей холодной мастерской в Риме, а не в теплых комнатах Москвы.
Раз я принесла показать ему кусочки гнилого дерева, светящиеся в темноте. Он еле взглянул на них и сказал презрительно: «Это только в России гниль светится». Я не поняла, что он хотел сказать, но не усомнилась в глубокомыслии его слов.
Он никогда не говорил об искусстве, а когда сестры пытались завести речь о каких-нибудь общих отвлеченных вопросах, он отмалчивался и, видимо, скучал.
Он оживлялся только в разговоре об общих знакомых, о красоте какого-нибудь женского лица, которые разбирал во всех тонкостях. Охотно говорил о деньгах, о ценах на картины. Как его хотел обмануть какой-то покупатель, как он продал в Америку свою картину вдвое дороже, чем ему давал русский меценат…
На меня он с каждым приездом в Москву обращал все меньше и меньше внимания. Я не понимала почему и очень мучилась. «Как дети меняются, вот в Кате уже ничего не осталось итальянского», — сказал он как-то. Неужели поэтому он не смотрит на меня, не шутит со мной? Как это ужасно! Я долго смотрела на себя в зеркало. По-моему, я все такая же. Конечно, некрасивая, длинный нос, толстые губы, волосы торчат во все стороны.
В ту пору я была мучительно конфузлива, во мне пропали живость и непосредственность. Я не знала, куда девать свои длинные красные руки, горбилась, втягивала голову в плечи, мне казалось, я непомерно велика ростом. Мать не называла меня теперь «цыганкой», а «палкой», «жандармом». Я была уверена, что я уродлива, что на меня всем противно смотреть. Войти в гостиную, когда там были гости, было для меня пыткой. Я перестала танцевать на наших вечеринках. Мне казалось, что я всем противна. Недаром Риццони не смотрел на меня, не целовал меня, не замечал меня. Это нисколько не меняло моего отношения к нему, моего поклонения. Но я была очень несчастна. Как вернуть мое прошлое счастье?