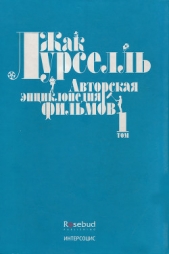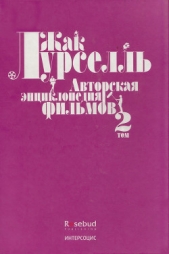Кино и все остальное
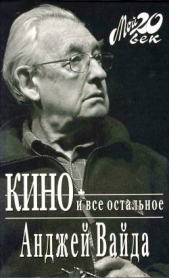
Кино и все остальное читать книгу онлайн
Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».
Фото на суперобложке Виктора Сенцова.
Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.
Перевод с польского И. Рубановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хорошо, когда в кино первое место занимает режиссер, а не автор прозы. Не потому, что режиссер — автор фильма, а потому, что кино есть кино, а литература — литература, но иногда их получается соединить в нечто новое, не поддающееся определению.
Под конец съемок мне удалось снять сцену за завтраком, когда Юльча и Ёля едят огурцы, макая их в мед. Эти женщины живут своей жизнью и на самом деле недоступны ни для одного мужчины. Они непрерывно о чем-то между собой перешептываются, между ними заключены какие-то тайные соглашения, а мужчина всегда остается вне их мира, всегда где-то сбоку… Эта сцена ближе всего к тому, что написал Ивашкевич. Жаль, что я раньше не открыл для себя их секрета, может быть, тогда мне удалось бы сделать весь фильм таким же тонким и интимным. Женственность живет своей жизнью, а Виктор — только пришелец в доме барышень из Вилько.
Работая над этой картиной, я многое передумал, и переменой, которая произошла во мне во время работы, продиктована заметка в блокноте:
«15 января 1978, Краков
Здесь, в Кракове, я намерен начать новую жизнь, неторопливую, внимательную и более глубокую. Я принял решение отныне обращать внимание на цвет глаз моих собеседников. Не записывать метких диалогов (не держать в памяти, чтобы позже использовать в фильмах), совершать долгие прогулки по местам, которые никогда не пригодятся для кино… «Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству», — как говорит Ставрогин в «Бесах» Достоевского».
Однако надвигающиеся события не позволили мне слишком долго наслаждаться внутренней свободой художника. Незабываемый 1980 год уже стучался в двери!
Театр совести Достоевского
У кого нет совести, станет она тому
наказанием.
Федор Достоевский.
«Бесы» и читать-то страшно,
не то что смотреть на сцене.
О существовании Достоевского я узнал от Марека Хласко во время нашей с ним работы над сценарием «Глупцы верят в утро» где-то осенью 1956 года [60]. Жили мы тогда несколько недель в Казимеже-над-Вислой, помимо работы, находилось время и на разговоры о разном. У Хласко была феноменальная память, он любил цитировать целые куски разных текстов, среди них был диалог Ставрогина с капитаном Лебядкиным, который я с ходу запомнил:
«— Возьмите мой зонтик.
— Зонтик, ваш… стоит ли для меня-с?
— Зонтика всякий стоит.
— Разом определяете minimum прав человеческих».
После нескольких таких образчиков я ринулся читать «Бесы», а прочитав, не перестаю думать о них до сегодняшнего дня.
«Размышляя над театральной формой «Бесов» в инсценировке Камю, надо всегда помнить, что своим существованием она обязана роману Достоевского. Для меня и актеров живым источником разнообразного знания о мире, которое мы переносили на сцену, был именно роман. Отсюда изменения в инсценировке, сокращения и дополнения, представлявшиеся нам необходимыми в процессе создания спектакля. Работа в театре для меня — это постоянная борьба между текстом и автономной жизнью произведения, каким является театральное зрелище. Актеры, их возможности и развитие персонажей, которое они предлагают, вбирают в себя из литературного первоисточника то, что выдерживает испытание репетициями в том смысле, чтобы произведение зажило самостоятельной сценической жизнью. Инсценировка Камю носит все черты индивидуальности автора и его актеров, их отношения к сочинению Достоевского. Также и мы, зачарованные «Бесами», искали свой подход к бессмертному произведению, пользуясь ключом, который дал нам Альбер Камю, великий знаток темы».
Так я написал в программе к спектаклю в Старом театре Кракова. Однако прежде, чем состоялась здесь первая репетиция, я побывал в четырех других театрах с предложением поставить «Бесы». Реакции были разные: «Может быть, попозже, не в этом сезоне, у меня нет такой большой труппы, в нашем театре не слишком просторная сцена». Наконец меня занесло в Театр Мазовецкой земли, где я услышал ответ хоть и нерадостный, но правдивый: «С моими актерами вам не сделать этот спектакль».
После ухода Зигмунта Хибнера из Старого и я долгое время сторонился этой сцены, но Ян Павел Гавлик, новый художественный руководитель театра, с самого начала стал просто фанатичным сторонником моего проекта. Я и сегодня не знаю, каким образом он добился от политических властей и цензуры разрешения на постановку «Бесов», коль скоро Достоевский, а в особенности этот его роман, в СССР тщательно изымался из театрального репертуара. Возможно, краковское начальство поддержало своего нового директора, чтобы дать ему шанс? Больше всех получил от этого я, но я помнил и всегда буду помнить, что «Бесы» в репертуар Старого театра ввел Ян Павел Гавлик.
9 февраля 1971 года, 10 часов утра. Первая репетиция, как это и заведено в театре, должна начаться с объявления предполагаемого распределения ролей. Не успели мы приступить, как актер, назначенный на роль самоубийцы Кириллова, встал со своего места и дрожащим от волнения голосом попросил разрешения зачитать заявление. Теперь мало кто из присутствовавших тогда в репетиционном зале помнит, о чем шла речь в том меморандуме. В самом общем виде это был протест против моей политической деятельности, которая оценивалась как антипольская; насколько я помню, речь шла о фильме «Пейзаж после битвы», как раз вышедшем тогда на экраны.
Прочитав заявление, актер сел на свое место, бледный, как бумага. Первыми взяли слово наши дамы: они стали извиняться передо мной, повторяя одна за другой, что это вовсе не мнение труппы, которая, напротив, знает мои фильмы и принимает их не только с точки зрения художественной, но политически. «Так вы будете играть Кириллова?» — без обиняков спросил директор Гавлик. Бедный артист, нисколько не раздумывая, ответил: «Да!», что повергло всех в еще большее изумление. Конрад Свинарский потом любил повторять (как бы слегка мне завидуя), что это было самое счастливое начало репетиций, о каком он когда-либо слышал. И это правда. Сразу создалось напряжение, нараставшее потом день ото дня до самой премьеры.
Основной трудностью, с которой столкнулись актеры, было отсутствие окончательного текста пьесы. Правда, работу мы начали с инсценировки Камю, но, заглядывая в роман, я постоянно находил опущенные им диалоги и подробности, которые непременно хотел увидеть на сцене. Взять хотя бы фрагмент уже цитированной беседы Ставрогина с Лебядкиным; Камю опустил в ней последнюю фразу Лебядкина («Разом определяете minimum прав человеческих»), а ведь в этом предложении содержатся невероятные ирония и юмор Достоевского. Я проверил все диалоги именно на предмет юмора, который, как мне кажется, французской публике менее доступен, чем польской. Между тем юмор Достоевского составляет противовес черной, как ночь, повести о рождении кружка революционеров.
Моя секретарша, с которой я обычно работаю в кино, ежевечерне переписывала отчеркнутые мною дополнения, утром я раздавал их актерам. От воцарившегося в коллективе хаоса люди испытывали отчаяние. Когда Кристина Захватович спросила Яна Новицкого, почему он не учит текст, он ответил, что возьмется за это не раньше, чем режиссер научится режиссировать.
Любопытно, что именно моя неуверенность в себе заставила артистов прочитать роман целиком, а не ограничиваться одной только инсценировкой. Могучая сила этой книги способна потрясти каждого. От нас она требовала правды и отдачи, к каким мы не были привычны. Я поддерживал это зыбкое равновесие, внушая актерам и себе, что мы еще не готовы играть Достоевского на сцене, но в этой борьбе обязательно должны выстоять. Например, мы неделями спорили об антрактах. Было ясно, что спектакль, рассчитанный на 3 с половиной — 4 часа сценического времени, требует двух антрактов, в худшем случае одного большого. В то же время я боялся, что утомленная публика после перерыва не вернется в зал. Напряженность этих споров еще больше лишала актеров уверенности в себе и сгущала предчувствие провала.