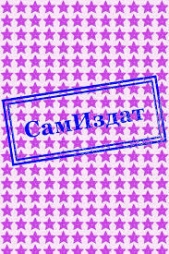Молодая Цветаева

Молодая Цветаева читать книгу онлайн
«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть первая — «Молодая Цветаева» — рассказывает о жизни Марины Ивановны до отъезда из Советской России в 1922 году.
Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слегка ироническая и все же теплая тональность окрашивает эти стихи Сергея Спасского, вспоминавшего хозяина дома в те давние вечера:

Широчайшая терпимость царит в этом доме. Супруги Цетлины, по свидетельству молодого Эренбурга, готовы были обсуждать все, что ни придет в голову, и гости «говорили много / Об ухе Ван-Гога, / О поисках Бога, / Об ослепших солдатах, / О санитарных собаках, / О мексиканских танцах / И об ассонансах…».
Однако январский вечер, на который Марина привела своего нового друга, был особенным — не случайно же, спустя годы, он попал в мемуары сразу нескольких современников. То была встреча-турнир двух поэтических направлений: символистов и футуристов. Первых представляли Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, вторых — Владимир Маяковский, братья Бурлюки, Василий Каменский, Борис Пастернак. Немало было и тех, кто стоял вне «лагерей»: такой была Цветаева, а еще Владислав Ходасевич, Павел Антокольский, Вера Инбер, Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Илья Эренбург, Маргарита Сабашникова.

Открыли вечер два вступительных слова: от символистов выступил Вячеслав Иванов, от футуристов — Николай Бурлюк. Затем читали стихи по старшинству. И все шло (как вспоминал потом в «Охранной грамоте» Пастернак) без сколько-нибудь чувствительного успеха.
Но вот очередь дошла до Маяковского. Он прочел поэму «Человек». Едва он кончил, его бросился обнимать Алексей Толстой. Стало ясно, что поэма — главное событие вечера и главное потрясение для всех присутствовавших.
Цветаева не могла не заметить реакции мэтров символизма. На это обратил внимание и Пастернак. Андрей Белый слушал как завороженный, побледнев и, как вспоминал Пастернак, «совершенно потеряв себя». По окончании чтения он взял слово и с несдерживаемым восхищением отозвался о масштабе дарования Маяковского, сказав, что прочитанная поэма — подлинно исполинская по замыслу и по исполнению. Впечатление от слов мэтра было столь сильно, что присутствовавшие бурно аплодировали уже не Белому, а автору поэмы.
Хозяйка пригласила всех к столу.
После первой же рюмки поднялся Бальмонт. Он прочел только что сочиненный им во славу Маяковского сонет. Сонет, в котором, как потом Бурлюк утверждал в разговоре с Асеевым, сквозь дружескую и отеческую похвалу явственно прозвучало признание в сдаче своих позиций перед молодым талантом.
Они сидели тогда рядом за ужином — Борис Пастернак и Марина Цветаева.
О чем говорили — бог весть. Пастернак влюбленно глядел на Владимира Владимировича. Через четыре с лишним года в письме Пастернаку Марина вспоминала об этом вечере: «Я вас пригласила: “Буду рада, если…” — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется…»
Пастернак о той же встрече сказал определеннее: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но и не зная тогдашних замечательных ее "Верст”, я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов…»
Так или иначе, именно с этого вечера у Цетлиных Цветаева вела свой отсчет встреч с Борисом Леонидовичем.
Через два месяца особняк Цетлиных заняли анархисты.
Как молниеносно все переменилось! Русская культурная жизнь так называемого Серебряного века, с ее буйным разнотравьем и цветением всех цветов, чуть ли не в одночасье прекратила свое существование. В восемнадцатом году начался исход русской интеллигенции за пределы России. Родину покидают политики и философы, журналисты, художники, музыканты и литераторы. Тот вечер у Цетлиных оказался одним из последних островков прежнего материка, уходившего навсегда под воду, как град Китеж.
Идет первая революционная зима. Даже хорошим хозяйкам с каждым днем все труднее «вести дом»: в магазинах пусто; если же удается найти продукты, они продаются по бешеным ценам. На улицах дамы в вуалях, старенькие генералы в папахах, бывшие курсистки чем-то торгуют, что-то выменивают. Всюду солдаты с мешками; то там, то здесь вспыхивают уличные митинги; ночью на перекрестках горят костры, проверяют документы. Газеты часто выходят с белыми колонками: свирепствует большевистская цензура.
Дневник Ивана Бунина зафиксировал упорные слухи: Москва скоро будет сдана немцам, лучшие московские гостиницы уже готовятся принять вчерашних врагов.
Все разговоры вертятся в эту зиму вокруг договора о мире с Германией: подпишут — не подпишут? И на каких условиях?
Брест-Литовский договор был подписан 3 марта.
И в тот же день издан знаменитый большевистский «квартирный декрет». Появляется новое словечко и понятие: уплотнение; рождается советский феномен — «коммунальная квартира». Квартира в Борисоглебском переулке не стала исключением.
Удар на первых порах смягчен для Марины тем, что по рекомендации сестер Эфрон в ее квартиру вселяется Бернгард Закс — давний друг семьи Эфрон. В цветаевской прозе он будет потом фигурировать как «большевик Икс», и Марина вспоминает его с благодарностью, лишь позволяя себе временами улыбнуться его невежеству. Закс был профессиональным революционером-большевиком. Той же весной 1918 года он поможет освободить из-под ареста старика Иловайского, для чего звонит самому Дзержинскому прямо из борисоглебской квартиры. Душевная доброта Закса проявится и в трогательных подарках: убежденный атеист, он покорил Марину, преподнеся ей на Пасху кустарную деревянную фигурку русского царя. Помогает Закс и в хозяйственных мытарствах — продуктами, а иногда и деньгами. Грядущей осенью именно он устроит свою «хозяйку» на службу в Наркомат по делам национальностей.
То, что около Марины оказался в ту грозную пору этот заботливый, деликатный и немножко смешной в ее глазах человек, заметно шлифует обычную цветаевскую категоричность в оценках происходящего вокруг.
Однако час от часу жизнь становится невыносимее.
Говорят, судьба любит наказывать чересчур осторожных. И вот весьма солидный («мейновский») капитал, оставленный матерью дочерям в наследство и хранившийся в банке по ее завещанию — до их сорокалетия! — экспроприирован. Между тем ежеквартальные проценты с этого вклада как раз и были для Марины и Аси основой их безбедного материального существования.
Этой весной Цветаева сблизится с Константином Бальмонтом. Он живет неподалеку, познакомились они еще раньше и скоро станут настоящими друзьями. Марина восхищена рыцарским благородством Бальмонта, его преданностью своему призванию, невероятным трудолюбием, щедрой добротой. Ее нежную симпатию вызывает и безоглядно преданная поэту его спутница Елена («моя порода! — записывает Марина в дневнике, — не женщина, а существо») и их дочь Мирра, с которой дружит Аля. В бальмонтовском письме мая 1918 года читаем: «Жизнь в Москве превратилась в какой-то зловещий балаган. <…> Голод уже устрашающе идет, уже наступил. Я зарабатываю по 2000 рублей в месяц, которые все уходят на жизнь, отнюдь не роскошную, а часто нищенскую…»