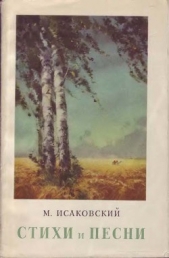Дорогой длинною...

Дорогой длинною... читать книгу онлайн
В настоящее издание включены воспоминания, стихи и песни, рассказы и письма Александра Николаевича Вертинского (1889-1957) — поэта, композитора, артиста, человека незаурядной судьбы.
Мемуары дают читателю вполне реальное представление о детстве, юности, первых шагах е искусстве А.Вертинского, о горести эмигрантских скитаний, о его тяге к отечеству, о возвращении на «милую навеки» родину после двадцатитрехлетнего странствия по свету.
В сборнике публикуются письма А. Вертинcкого, адресованные разным лицам, жене, дочерям. Вернувшись на родину в 1943 году, он впоследствии мучительно прозревал в созданной Сталиным удушливой атмосфере. Это была тихая невидимая миру трагедия о которой можно узнать из его писем. Только искренняя любовь публики была тем источником, который поддерживал в нем жизненные силы.
Такова эта одновременно и счастливая и трагическая судьба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Простите, вы, кажется, уронили деньги?
Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацеку было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек денег. После этого он в тот же день исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска агенты сигуранцы нашли у него 200 тысяч лей.
Теперь их интересовало, откуда у него зти деньги.
— Я могу хоть сегодня уйти отсюда, — со смехом говорил Вацек. — Они не могут доказать ничего. Потому что я «достал» их даже не в Румынии! Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка! Они просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня. А я копейки не дам этой сволочи.
И он заразительно хохотал.
— Подержат ещё пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут!
По ночам я пел ему блатные песни — «Клавиши», «Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал. Я люблю блатные песни и вообще — песни простые, «душевные под гармошку»…
На этой почве мы сдружились.
— Если я тебе смогу быть полезным, — сказал Вацек, — когда выйду отсюда, ты скажи, что тебе надо, — я помогу с удовольствием.
Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно.
Через две недели однажды утром меня вызвали наверх.
— Вы свободны, — сказал мне толстый начальник. — Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Всюду, кроме Бессарабии.
Я кивнул головой.
— Вот ваши вещи!
Передо мной лежали галстук, портсигар, гребешок, мелочи… но денег не было.
— А деньги? — спросил я.
Лицо начальника выразило максимум изумления.
— Деньги? Какие деньги?
— Пятьдесят тысяч лей! — ответил я.
Начальник строго глянул на меня.
— Итак, вы утверждаете, — откашлявшись, медленно проговорил он, — что у вас было пятьдесят тысяч лей? Так я вас понял?
Я опять кивнул.
— Стало быть, эти деньги у вас пропали?
— Да.
— А-а… — задумчиво протянул он. — В таком случае мне придётся задержать вас ещё на некоторое время, пока мы произведём расследование.
Я понял.
— Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я оставил их дома на комоде.
— Так будет лучше, — сказал он.
— До свидания.
Я улыбнулся и вышел.
Выйдя из сигуранцы, я стал соображать, что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь было негде. В Бессарабию нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт не хватит, да и позволят ли мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскрёб двадцать лей. На эти деньги я сбрил отросшую бороду и усы и смог снять номер в маленьком отеле, где остановился вместе с Кирьяковым. Отмывшись и отоспавшись, стали думать, что делать.
Через несколько дней Кирьяков нашёл мне место. Он «продал» меня в шантан одному греку. Шантан был третьесортный и довольно грязный. В главном зале, правда, публика сидела на стульях и смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших все один и тот же танец — вроде «казачка», но в разных костюмах и под разную музыку. Был ещё куплетист с лицом мозольного оператора, дрессированные собаки и я. Оттанцевав свой номер, девицы входили в ресторан и садились гостям на колени. Там было открыто всю ночь. Я пел какую‑то ерунду с весёлыми припевами, старые цыганские романсы вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони‑ка к Яру» и т. д.Пел под оркестр. Румынам нравилось. Они подпевали и раскачивались в такт песне. Я «имел успех». Хозяин был доволен и положил мне пятьсот лей в месяц. Суммы этой было достаточно, чтобы не голодать и оплатить отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что моё имя там сделает сборы. Но как доехать? Где взять денег? Одни визы и билеты туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас не было никаких. Оставалось ждать чуда.
В Бухаресте был русский консул, собственно говоря, бывший консул. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приёмы. Фамилия его была Поклевский-Козелл. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил. Эту группу составляли бывшие гвардейские офицеры, попавшие в Румынию, бессарабские помещики черносотенного толка, великосветские дамы из бывших фрейлин и жены генералов. Искать там какого‑нибудь сочувствия или поддержки мне было не к лицу. Да к тому же я был не эмигрант, а греческий подданный Александр Вертидис, которому надлежало искать защиты у своего консула. Но, на мою беду, греческого консульства в Бухаресте не было. Да и не очень‑то я стремился попадать на глаза «своим» консулам. Говорить по-гречески я не умею. Ещё отберут, того и гляди, паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля. От скуки мы с Кирьяковым бродили по городу, рассматривая его и изучая.
Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешёл в лучший, самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане.
Прежде всего этот кабак, а затем и последующие были для меня хорошей школой. До этого я был неврастеник, избалованный актёр, «любимец публики», который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренёров, театры и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и т. д. Всё это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актёрские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актёр считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры» и т. д. Я‑то ещё тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало, а что творили другие? Их антрепренёры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди — музыканты, актёры помельче, публика!
От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. Ибо гость — святыня. Гость всегда прав. Он платит деньги. Он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Пред ним склоняется все!
Но возьмём лучшее. Представим себе, что публика ведёт себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. Ибо в театр приходят, «чтобы слушать», а в кабак — «чтобы кушать», и пить, и танцевать, и любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание:
— Я пришёл сюда из‑за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. И я не виноват, что вы тут поёте и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре. И не в церкви.
И он прав. По-своему, но прав.
И я пел. Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твёрдо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики. Обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчётливо.
Я имел успех или не имел успеха. Это зависело не от меня, а просто от подбора публики и её настроений.