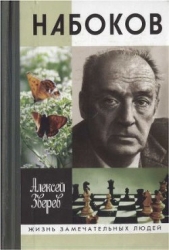Вера (Миссис Владимир Набоков)
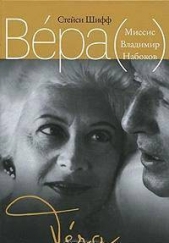
Вера (Миссис Владимир Набоков) читать книгу онлайн
В книге "Вера (Миссис Владимир Набоков)" Стейси Шифф, блистательный литературовед и биограф, рассказывает об одном из самых известных романов XX века. Это история любви Владимира Набокова и Веры Слоним, ставшей его женой и верной помощницей. Их брак продлился более полувека, и все эти годы Вера была музой Набокова, и именно ей он посвятил лучшее из того, что создал. Прочтя эту книгу, читатель поймет, какое огромное влияние оказала эта незаурядная женщина на творчество знаменитого писателя, сколь значительную роль она сыграла в его жизни.Подробнее:http://www.labirint.ru/books/228456/
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
. Именно в то лето Вера сетовала на свое неважное знание английского. Их часто звали на всякого рода вечеринки, казавшиеся ей «слишком официальными (и чопорными)». Нередко они проводили вечера в обществе Генри Ланца — того самого финна, который предложил Алданову и Набокову место в Стэнфорде, — и Набоков играл с ним в шахматы. В течение лета Ланц с Набоковым умудрились сыграть 214 партий. «Он подсчитывал это с присущим ему педантизмом», — добавлял Набоков, с удовольствием подмечая при всем неприятии педантизма, что сам выиграл 205 раз[96]
. Даже после 214 сыгранных с Ланцем партий Владимир так и не узнал, что тот лишился летнего жалованья ради того, чтобы устроить Набокова в Стэнфорд, как и не отдавал себе отчета, что читает лекции в пиджаке Гарри Левина. Никто так активно не вторгается в жизнь окружающих, как новый иммигрант. И на этой ранней стадии трудно было определить, кто у кого главный герой: то ли Америка у Набоковых, то ли Набоковы у Америки. Ни одна из сторон не имела и отдаленного представления о реальной жизни другой стороны. Достаточно легко вообразить, какой представала Вера в искаженном не без ее участия восприятии. Одна студентка с живостью вспоминала, как Вера подавала чай из сияющего серебром самовара, попутно излагая ритуал русского чаепития. Но, перечитав об этом после, засомневалась: «Хотя откуда бы взяться у Веры самовару, пусть даже самому маленькому?» Это явно был не тот предмет, который могли возить за собой трехкратные беженцы.
В июле до Набоковых дошел приятный, однако в материальном смысле не слишком отрадный слух, будто издатель «Нью Дайрекшнз» Джеймс Лафлин предложил за «Себастьяна Найта» 150 долларов. Аванс был ничтожный, но для рукописи, написанной три года назад и с тех пор множество раз отвергнутой на обоих континентах, это звучало обнадеживающе. Ломая привычную традицию, Вера организовала отправку трети полученного от Лафлина аванса Анне Фейгиной, остававшейся в неоккупированной части Франции. В последующие годы и при малейшей возможности Набоковы отсылали за границу деньги по многочисленным адресам. Мысль о все еще живущих в Европе старых друзьях и родственниках — сестрах Маринель, Георгии и Иосифе Гессенах, Анне Фейгиной, всех сестрах и братьях Веры с Владимиром — заставляла забывать о трудностях первых лет жизни в Америке; оба Набоковы в разной связи высказывали сожаление о том, что, хоть самим удалось бежать, пришлось оставить своих близких в беде и тем более в эти «тяжкие неандертальские времена». Чтобы свести концы с концами, Набоковы претерпели немало мытарств, прилагали уйму усилий (Владимир утверждал, что за лето 1941 года он так измучился, что буквально не было сил подняться со стула), но Вера, подводя итог, говорила: «Несмотря на все, мы были очень счастливы уже тем, что оказались способны существовать». Лафлин попросту воспользовался их трудным положением. К тому времени как был подписан контракт с «Нью Дайрекшнз», в нем оговаривался и контракт на следующие три книги Набокова.
Просматривать гранки «Себастьяна Найта» выпало Агнес Перкинс, возглавлявшей факультет английской литературной композиции; к ней Набоковы и отправились в середине сентября на поезде и прибыли в жестокие холода. В 1941 году английский у Владимира был не без причуд, тех самых, которые с равной легкостью можно назвать и грамматической погрешностью, и неожиданной оригинальностью. Все рассказы, опубликованные им в том году, были из уже написанных на русском, которые он — с посторонней помощью и без оной — воплотил в английском языке; здесь Набоков выступал не столько как автор, сколько как переводчик Сирина. С «Себастьяна Найта» началось высвобождение Набокова из сиринской куколки, хотя с этим соглашались не все критики, прочитавшие роман, вышедший в свет той зимой. Воскресный обозреватель «Нью-Йорк таймс» нашел произведение глупым, а английский язык автора — «подходящим для любителей Уолта Диснея». «Все это, должно быть, превосходно читается на другом языке» [97]
, — заметил он. Вероятно, Вера восприняла отзывы куда болезненней, чем сам автор, который равнодушием к критике не отличался, хотя упорно против этого возражал, утверждая, что критика его закаляет [98]
. Набоков открыто признавался, что писать по-английски ему трудно. Через год после выхода в свет «Себастьяна» Набоков огорчался, что английский у него все еще не дотягивает до русского; даже когда это произошло, представления Набокова о правильном английском отличались от традиционных. Разве может человек, с рождения привыкший воспроизводить на кириллице «Сар d’Antibes»[99]
, удержаться, чтобы не поиграть словами; Набоков с удовлетворением отмечал, что следующая его книга, в высшей степени субъективная биография Гоголя, переливается, «будто каплями росы, множеством очаровательных маленьких ляпсусов». Но подобные ляпсусы не вызвали ожидаемого всеобщего восхищения. В 1945 году Кэтрин Уайт в «Нью-Йоркере» высказала озабоченность набоковским пристрастием к устаревшим словам и выдвинула предположение, что он черпает свой английский непосредственно из Оксфордского толкового словаря. Среди произведений, которые она в то время проработала, Уайт отозвалась о рассказе «Double Talk»[100]
как о «весьма затянутом и весьма плохо написанном, хотя забавном и печальном произведении Набокова, который не позволяет мне ничего исправлять, разве что одно-два слова, в то время как все это надо переложить на английский язык, сократить и перевести из прошлого в настоящее». (Вера заявляла о своей большой симпатии к Уайт за то, что та умеет приспособиться к запросам Набокова.) Не без оснований Гаролд Росс клялся, что перережет себе горло, если Владимир Набоков когда-нибудь станет профессором английской литературы[101]
.
Росс пока мог не торопиться со смертью. Вера устроила приглашенного межкафедрального профессора вместе с Дмитрием в меблированной квартирке неподалеку от капмуса Уэлсли, но в 1941 году Набоков ни английскую литературу, ни, соответственно, никакой другой регулярный курс там еще не читал. Кроме частых общений со студентами в столовой и шести лекций за год у Набокова в университетской жизни было мало обязанностей; в их уютном дощатом домике семья, по мнению Набокова, жила в «дивном уединении». Между тем странный медовый месяц с Америкой продолжался. Набоков заставлял себя писать по-английски, и эта мука была ему одновременно и сладка, и ненавистна. Он боролся с постоянным жестоким искушением, которому время от времени поддавался; в тот же период создал некоторые из самых знаменитых своих стихотворений Он испытывал чисто физический дискомфорт. «По ночам меня тошнит от англосаксонской похлебки», — жаловался Набоков. Вере, в свой черед, приходилось удваивать старания: она была потрясена объемом труда американских домохозяек, приравнивая его к «героизму». «Я неважная кухарка», — весело признавалась Вера (домоводство в ее воспитании не было предусмотрено) и не стеснялась говорить, что изо всех сил старается держаться подальше от кухни. Впоследствии она позволяла подтрунивать над собой, что половину ее гастрономического репертуара составляет яичница; новые поселенцы сосредоточились на том, что почти не надо было готовить: растворимых супах, консервированных овощах, фруктах и яйцах. Большую часть времени, проведенного в Уэлсли, Вера, считавшая существенным в жизни лишь момент творчества, в одиночку и без особого энтузиазма вела борьбу с махрами массачусетской пыли. «Все мое время уходит на домашнее хозяйство (его я не выношу — я ужасная хозяйка)», — ворчала Вера. «Домохозяйка я не просто плохая, ужасная», — впоследствии, порядком наговаривая на себя, уточняла она, предавая анафеме все многообразие так называемых американских жизненных благ [102]
. И как бы в доказательство незнания американских обычаев — а заодно и демонстрируя свою непохожесть на окружающих — вечером 31 октября 1941[103]
года Вера с Владимиром, оставив Дмитрия на приходящую няню, отправились на факультетскую вечеринку.