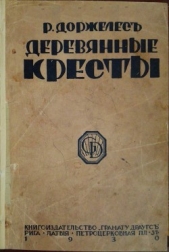Жизнь Никитина

Жизнь Никитина читать книгу онлайн
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И гости уже не шумели, не так азартно спорили, как, бывало, у Николая Иваныча.
И Придорогин, безделушник, уже не разваливался по-барски на диване, не вопил благим матом, посиживал благопристойно.
И было всегда прохладно, потому что топили раз в сутки, экономили дрова.
И расходились по домам не шумно. Чему, впрочем, существовали причины довольно основательные: Милошевича вторично приглашали на Девиченскую. Жандармское управление подозревало его в авторстве некоторых обличительных статеек, опубликованных искандеровским «Колоколом».
Скучно было у Михаила Федорыча.
Радостью были письма от Второва.
В одном из них Николай Иваныч напомнил о «Кулаке», и Никитин принялся наконец за окончательную отделку поэмы.
Правду сказать, он с неохотой приступал к этой работе. Обнародование «Кулака» его тревожило. В одном из писем он высказывал опасение: «…при выходе в свет „Кулака“ будет вот какая история: почтеннейший критик берет в руки новую книжку, смотрит – поэма И. Никитина. О, – говорит он, – знаем! Как не знать подражателя бывших, настоящих и едва ли не будущих поэтов!» После этого понятно, как прочтется «Кулак»: через пятую на десятую страницу…» Дня два ходил в нерешимости, с опаской поглядывая на рукопись, боясь к ней приступить. Но раскрыл тетрадь – и работа захватила, оказалась необыкновенно увлекательной.
Он давно не перечитывал поэму и – боже милостивый! – столько вдруг свежим глазом увидел погрешностей! Корявый стих, неточные слова, дурно звучащая рифма… Позвольте, позвольте, а ландшафт? Бесцветен, сух, прозаичен.
Черт знает что! Луга идут, поле лежит. Нет, нет, весь прибрежный ландшафт никуда не годится. Когда-то сказал Ивану Иванычу о григорьевских стихах: воздуха нету, облаков… А в этом сухом перечне —
в этом перечне есть воздух? Не лучше ли:
Опрокинуто в реке! Вот это, кажется, не сухой чертеж. Это уже – картина, живопись.
Закатным лучом солнца выхваченные, белеют ярко, нестерпимо для глаза. А вот – дальше, дальше… как бы в дымке:
Нет, положительно, поэма на глазах хорошела!
И бог с ними, с критиками! На всех не угодишь. Да и не всякий поймет тот неприглядный мир, в котором живут герои поэмы.
В августе «Кулак» был отделан, переписан набело и спешной почтой отправлен издателю.
Осенью Придорогин уехал в Петербург хлопотать в Сенате по каким-то своим запутанным тяжебным делам.
Судебная волокита тянулась давно, конца ей не предвиделось. Его поездка по делу едва ли была необходима. Вернее всего, ехал он отдохнуть от безалаберной воронежской жизни, от утомительных клубных ночей с картежной игрой, до которой стал большим охотником и которая дурно сказывалась как на здоровье, так и на порядком уже отощавшем кошельке. Ехал окунуться в столичную сутолоку, послушать итальянскую оперу, пофланировать по Невскому проспекту, скушать порцию пирожков у знаменитого Дюссо и, разумеется, обнять незабвенного Николая Иваныча, отвести душу в спорах о журнальных новинках, о последней статье Щедрина, пылким почитателем которого заделался сразу же после появления в печати его «Губернских очерков».
Перед отъездом забежал к Ивану Савичу.
– Вот что, – сказал строго, – знаю все, о чем вы тут с Курбатовым толкуете, что замышляете… Послушай, побойся бога, Савка! Не губи талант! Не меняй поэзию на медные копейки! Пусть книги – да ведь торговля же, пойми!
– Бог с вами, помилуйте, – успокаивал его Никитин, – откуда вы взяли? Да у меня и капитала нету, чтоб начинать собственное дело.
– Вот это единственно меня и утешает, – сказал Придорогин, – что капитала нету.
Уехал милый Иван Алексеич, и «субботы» совсем захирели.
Каждый вечер стучался к Ивану Савичу Курбатов. Живой, общительный, хорошо образованный, отлично воспитанный и хотя немного барин – он был приятным, легким человеком. Кроме всего, он искренне любил литературу, скрытно, кажется, сам пописывал и судил о делах литературных хоть и не всегда разумно, зато современно. И даже, может быть, слишком, чересчур современно, перегибая палку в отрицании высокой поэзии и красоты, в преклонении перед науками естественными. Он говорил: «Народу что нужно? Хлеб и кабак. А вы толкуете о каких-то – ха-ха! небесных красотах!»
Такие суждения несколько коробили Ивана Савича, но, как человек умный, он сразу заметил, что Николай Павлович не столько верит в то, о чем говорит, сколько кокетничает своими крайними воззрениями, кокетничает наивно, по-мальчишески, красуется. И он с улыбкой выслушивал Курбатова, не придавая особого веса его разглагольствованиям. Болтовня, словесные фонтаны – вот что такое были курбатовские декларации.
Впрочем, Никитина радовало, что у него в доме вместо отвратительного, грязного семинарского профессора живет веселый и образованный человек.
Легкий. Вот именно легкий человек.
Пустоватый? Может быть. Но помилуйте, господа, кто нам дал право измерять глубину чужой души? И какими нравственными аршинами, позвольте спросить?
Что-с?
Постучится, войдет и сядет. Смешной случай расскажет, анекдот. Обругает прочитанную книгу или статью. Схватит гитару и довольно приятным тенорком споет новый романс. Потешно передразнит кого-нибудь из знакомых (тут Мишелю доставалось порядочно), целую сценку иной раз разыграет. А не то и просто смирнехонько посидит, помолчит. Даже, кажется, задремлет в стареньком, скрипучем кресле. Иван Савич пишет, поправляет поэму, перебеливает ее на чистые листы, а он сидит, помалкивает. Плохо ли?
Однажды вот так постучался, весело крикнул, входя:
– Эврика, Иван Савич! Эврика!
– Нуте? – улабаясь, обернулся Никитин. – Что еще такое придумали?
– Да как же! Мы с вами бьемся, гадаем, где взять две тысячи, а оказывается, очень просто!
– Вот как? Каким же образом?
Никитин ожидал услышать очередной анекдот, но розовое, круглое лицо Курбатова было серьезно, даже таинственность какая-то словно бы в нем проглядывала.
– Каким образом? А вот – извольте…
На цыпочках, оглядываясь, как заговорщик, приблизился к Ивану Савичу и гулко, с придыханием шепнул:
– При-за-нять!
– Но у кого же? – удивился Никитин. – Вы что, имеете кого-нибудь в виду?
– Имею-с! – хихикнул Курбатов. – Некоего Гаруна аль-Рашида…
– Ну-у, – разочарованно протянул Никитин. – Я так и знал, что шутите.
– А вот и не шучу нисколько! – Курбатов плотно уселся в кресло, как бы приготовясь повести длинный разговор. – Про Кокорева Василья Александрыча слышали?
Разумеется, слышал.
Столичный коммерсант, преуспевающий делец, сумевший за короткое время нажить миллионное состояние, Кокорев принадлежал к новому типу образованного купечества, появившемуся на Руси в предреформенные годы. Он одевался по-европейски, брил бороду, грамотно писал, посещал концерты приезжих знаменитостей и сам вполне порядочно играл на фортепьянах модные вальсы знаменитого Штрауса.