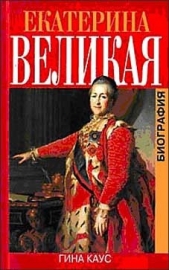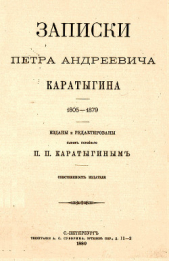Записки (Записки Екатерины II)

Записки (Записки Екатерины II) читать книгу онлайн
Незаурядный литературный дар императрицы Екатерины II, слывшей философом на троне, принес изрядные плоды. В свободное от правления время она вела переписку, делала переводы, создавала либретто опер и балетов, а также басни, сказки, исторические пьесы и комедии, эссе, публиковала сатирические и полемические статьи в журнале "Всякая всячина".
"Собственноручные записки императрицы Екатерины II" - это и мастерски исполненный автопортрет, и повествование, имеющее огромное историко-литературное значение. Колоритные зарисовки жизни двора, интриг и микрозаговоров дают читателю возможность ощутить водоворот событий и кипение страстей, предшествовавших воцарению Екатерины на русский престол.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Человека, о котором идет речь, звали Браун; это был своего рода сводник по всяким делам, он ввел Брокдорфа к этим девицам; здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым; тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить его жену. С этой целью Его Императорское Высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость? Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила: разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана? Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить. Я спросила у него: «Каким образом?» Тогда он прислонился спиною к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит, не рассчитывает ли он драться со мною; что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросила его: «В чем?» Тогда он мне пробормотал: «Да по отношению к Шуваловым». На это я отвечала, что это лишь в отместку и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить: «Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу». Я сказала ему: «Да в чем доверяться?»
Тогда он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать. От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. В тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении.
Чтобы показать ему, как Его Императорское Высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся Ее Императорскому Величеству; что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что, когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер. Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушел со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мною, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию.
Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих голштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала: «Нет ли возможности сделать иначе?» Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют голштинцы. Он действительно так и сделал; просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и шести месяцев с тех пор, как она дала ему сто тысяч; но он остался при своем мнении, а я – при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил.
После Пасхи мы отправились в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в третий раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои Ее Императорского Величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре, как я это уже рассказывала. Приехав на дачу в Ораниенбаум, мы увидели там нечто необычайное. Его Императорское Высочество, которому его голштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут.
От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что притом одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брокдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным подергиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была рядом с ним; в глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят голштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы прусскому королю; это все предателей приводят в Россию». Вообще, общество было возмущено этим появлением; самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным; в сущности, это было очень неосторожное ребячество.
Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю; я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя, ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец, он на это согласился, и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение.
Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен; это составляло довольно многочисленную компанию, кавалерам нечего было делать в голштинском лагере, из которого Его Императорское Высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме, и так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз, по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово: я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение.