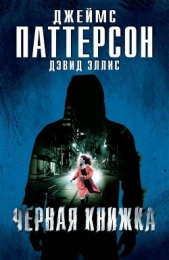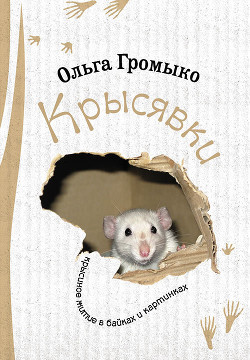Телефонная книжка

Телефонная книжка читать книгу онлайн
«Телефонная, книжка» — уникальная форма мемуаров, написанных известным драматургом, автором пьес и киносценариев «Золушка», «Снежная королева», «Обыкновенное чудо», «Голый король», «Дракон» и других. В них использована реальная телефонная книжка автора. Это целая галерея миниатюрных литературных портретов современников писателя, с которыми в разные годы сводила его судьба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
З
Из‑под очков. Но рот — зеркало души — выдавал подлинные чувства Павла Терентьевича. Ему было приятно, что его хвалят. И никто не осуждал его за это.
Следующая фамилия Зощенко Михаил Михайлович. [0] Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю, того, что могу рассказать. Это уже история [1]. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться.
Дальше, по свойственной словарям и телефонным книжкам непоследовательности, идет Зон Борис Вульфович. [0] Познакомился я с ним в 22 году, когда был актером, а он только собирался на сцену. Впрочем, и мой театр закрылся [1], и мне кто‑то нашел место у владельца частной конторы. Помещалась она на Литейном, в бывшем магазине Шацлыгина. Этот хирургический магазин занимал целый этаж в доме, кажется, 55. Второй этаж. Национализированное имущество сложено было в крайней комнате, дверь в которую была запечатана сургучом. Остальные занимала контора моего хозяина. Мои обязанности были многообразны, а зарплата неопределенна. Я ездил за мукой на мельницу имени Ленина и отвозил мешки в булочную компаньона моего хозяина. Впрочем, было это всего раза два. Являлся в девять утра к хозяину за приказаниями. Сидел в конторе. Продолжалось это, впрочем, недели две — три, а потом хозяин разорился. И с Зоном я встретился как раз в этот короткий и унылый период моей жизни. И он занимал столь же неопределенную должность у столь же несчастливого дельца. И мечтал о театре. Так он тонок, по — еврейски пригож, высок, лицо правильное. Очки. Весел и смешлив он был, как школьник. Потом встретились мы в ТЮЗе. Я играл в Театре новой драмы [2], а Зон — у Брянцева. Потом встречались мы у Александры Яковлевны Бруштейн. И Зон был все весел и смешлив. Но к этому прибавилась самоуверенность, которая шла к его пригожему жениховскому лицу.
И веселость была уже не школьническая, но жениховская. Не столько от счастья, а по должности. Глядите, я веселый, молодой, уверенный в себе, довольный работой режиссер. И это вызывало невольную настороженность. Чудилось, что этот жених пойдет на любой выгодный брак. И пьесы его, написанные с Бруштейн [3], отличались полным отсутствием любви к чему бы то ни было, кроме успеха. Никакой задачи, кроме желания соответствовать. Хотел успеха и Гаккель — но в нем, как я уже рассказывал, была и верность или пристрастие к известным литературным формам, и вера. Тем не менее, в конце двадцатых годов обнаружил я, что Зон обладает особенностью весьма важной — он умел учиться. И учился жадно. Он ставил все лучше. Молодые студенты — народ недоверчивый — верили ему. А когда ставил он «Ундервуд» и «Клад» [4], убедился я в добросовестности, с которой относился Зон к авторскому тексту. С течением времени он круто повернул в сторону системы и, подумать только, при всей трезвости натуры своей, уверовал в нее. И сам Станиславский его полюбил. И Зон вступил в пору своего расцвета. Он и в самом деле стал одним из лучших режиссеров Ленинграда. Причин этому было много. Прежде всего органически образовавшийся коллектив. В Новый ТЮЗ вошли кончившие Театральный институт ученики Зона и те из актеров основного ТЮЗа, которые в Зона верили. Успех пьесы Любашевского «Музыкантская команда» [5] еще более укрепил театр. У Зона обнаружились, да они и были всегда, впрочем, административные способности. А без этого режиссеру трудно. Он по — прежнему был весел, пригож, но уже не как жених, а как хозяин. Уверенность его опиралась на солидные достижения. Он поставил «Бориса Годунова», и с успехом [6]. Прекрасно играл Самозванца Чирков. Зон отлично поставил и пушкинские сказки, не инсценируя их [7]. Актеры и читали, и играли весь пушкинский текст, не пропуская ни строчки. И так далее, и так далее. Успех театра был настолько солиден, что на премьере «Бориса Годунова», когда в публике дружно захлопали отлично танцующим полякам, один из самых известных режиссеров Ленинграда сказал как бы про себя, однако так, чтобы начальство услышало: «Аплодируют интервентам». Зона в те дни принимали всерьез. Из маленького театра на ул. Желябова перебрались в гораздо больший на Владимирскую, 12. И Зон все хохотал при встречах. И ходил, откинув голову назад.
Великое дело вера. В конце тридцатых годов система Станиславского еще не стала общеобязательной. Новому ТЮЗу пришлась она по душе, была им избрана добровольно. Мне даже грустно расставаться с этим временем театра и с тогдашним представлением моим о Зоне. Многое было и пережито вместе. Он поставил за десять лет пять моих пьес [8], театр считал меня своим. Зон — тоже. Я успел примириться с тем пригоже — буржуазным привкусом, что при некоторых атмосферных условиях явственно ощущался во всем существе Зона. Но он производил на свет вполне здоровые спектакли. А чего он искал, производя, — наслаждения или потомства, — было в конце концов не так уж важно. Законы природы! Ладный, с правильной неполнеющей фигурой, с правильным лицом, сверкая очками, сияя от наслаждения, раздражая этим сиянием товарищей по ремеслу, проходил он бесконечными фойе театра из кабинета своего к зрительному залу. Звонок. Гаснет свет, и товарищи по ремеслу вынуждены признать, что от этого легкомысленного мужчины опять родился здоровый ребенок! К лермонтовскому юбилею поставил Зон его сказки [9]. Все было не по — вчерашнему, а по — военному, даже солнце светило не так, как всегда. Спектакль был хорош, но я не со вчерашней, а нынешней, самого меня пугающей ясностью, не предчувствовал, а знал, что больше не увидеть мне ни одной премьеры в Новом ТЮЗе. В конце июля театр эвакуировался. Мы хотели было ехать с ними. Даже вещи уложили. Да передумали и встретились с Зоном только в июле 43 [10]. Страшно переменился коллектив. Да в сущности его уже не было. Были враждующие силы: Зон с двумя — тремя верными или, как Любаш, с нейтральными — и все остальные. Этот покойный Новый ТЮЗ еще бежал и размахивал руками. Но уже готов был рухнуть. Зон все был пригож и весел — но это уже была веселость хозяина, желающего скрыть подлинное положение своих дел. Та часть его существа, что тревожила благообразно буржуазной аккуратностью — в тяжелых условиях утратила и пригожесть, и аккуратность. Все театры в эвакуации захирели, потускнели, но один только Новый ТЮЗ погиб, закрылся. Когда мы встретились с Зоном в Москве, он сказал Катюше: «Театр, как горб у меня на спине».
Уверенность — сначала щенячья, потом несколько напускная, юношеская, потом хозяйская, потом полемическая, вопреки нападкам, вопреки подлинному положению вещей, — пропитала его насквозь. И стала терять свою благообразность. И Зон одновременно с этим стал терять представление о реальном положении вещей. Он верил, что и без своего театра будет сиять и наслаждаться и производить премьеры. И дело кончилось катастрофой. Один единственный из всех ленинградских театров, Новый ТЮЗ, коллектив которого славился до войны как самый дружный в городе, был закрыт. Развалился. В огромном городе остался один единственный детский театр [11]. А Зон — не прижился ни в одном коллективе. Ни одной удачи с тех пор, как закрылся Новый ТЮЗ — вот тебе и горб на спине. Терял он одно время и профессорскую должность в Театральном институте. Потом восстановился. И, несмотря на все злоключения и потери, сохранял все тот же благообразно — цветущий вид. Разве только — волосы поседели, что, впрочем, только украшает его, придает благообразию почтенность. Он и заслуженный артист, и орденоносец, и член партии, но бесплоден, бесплоден, его нет. Любит себя до самодурства, вот во что переросла его жениховская фатоватость. В институте берется за ручку двери только через носовой платок. Бережет себя. И свои вещи тоже. Недавно встретились мы с ним в университете. На годовщине «Дон Кихота». И одевались вместе. И я увидел, что шуба его с бобровым воротником повешена не как у людей, а на особых плечиках, чем он даже похвастал: «Всегда, — говорит, — вожу их с собой». И он сложил плечики пополам и спрятал в боковой карман шубы, и это почему‑то привело меня в ярость. Словно именно эта вешалка и погубила Новый ТЮЗ. Это бережное, бережливое отношение к себе и своим вещам.