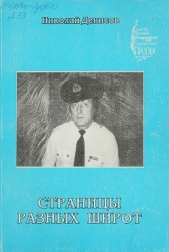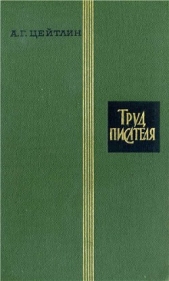Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе

Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе читать книгу онлайн
Очерки и эссе о русских прозаиках и поэтах послеоктябрьского периода — Осипе Мандельштаме, Исааке Бабеле, Илье Эренбурге, Самуиле Маршаке, Евгении Шварце, Вере Инбер и других — составляют эту книгу. Автор на основе биографий и творчества писателей исследует связь между их этническими корнями, культурной средой и особенностями индивидуального мироощущения, формировавшегося под воздействием механизмов национальной психологии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Московский еврейский мальчик, Боря Пастернак, через свою «полузвериную веру», мог ли иначе постигать нянюшкина бога, главного лесничего того леса, который его, Борю, окружал? Не мог. А ежели бы мог иначе, по-другому, то по-другому и было бы.
Но вот шарада: почему Юра Живаго, русский мальчик из православного московского дома, именитого роду, тоже обречен был воспринимать своего Бога как лесничего? Ведь для его родителей, для всех, кто окружал Юру, не был этот Бог лесничим, и ничем, ни иконным своим, в золоте и краске, ликом, ни перстами своими, ни одеждами не приводил на ум человека из лесу, лесничего.
Понятно, с годами все менялось, с годами Юра утратил робость и «чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною». И точно так же, как его биограф и собрат по цеху поэзии Борис Пастернак, он уже не предавался безотчетно словам ритуала, а «требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как великим предшественникам»
Если не было ничего общего с набожностью в его чувстве преемственности к высшим силам земли и неба — обратите внимание: и неба! — если поклонялся он им как «великим предшественникам» — предшественникам чего? кого? — то спрашивается: в чем же состояла его набожность, в чем сказывалось его православие?
Пересматривая свою веру, пробуя все на зуб, он шел известной стезей талмудиста, который, с одной стороны, полагается на мудрость отцов и толкователей веры, а с другой стороны, имея прямой доступ к Вседержителю — ибо нет у еврея посредника между ним и Господом, — в конечном итоге почитает себя самого главным судьей в вопросах собственной веры.
Требуя смысла от слов своей веры, данной ему от предков, Юрий Живаго задавался теми же вопросами, что и Борис Пастернак, и точно так же, случалось, скатывался к богохульству на иудейский манер.
«Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства». Отсюда и вывод: Мария никакая не Богоматерь, а просто женщина — не дева, а именно женщина, как и записано у евреев — казус ее лишь возведен в символ непорочности зачатия, ибо нет зачатия — нет материнства.
Точно ли в те дни или в близкие к ним, когда Лялюша забеременела от «старого еврея» Пастернака и надо было решать судьбу ожидаемого сына — или дочери, — писаны эти строки романа, будут решать пастернаковеды. В пятьдесят четвертом, сообщает Ольга Ивинская, ей стало «трудно скрывать новую беременность». Но это была уже «новая» беременность, а регулярность в отношениях началась с апреля 1947 года, когда «я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади…»
В своем стихотворении «Осень» Юрий Живаго рассказал об этих днях Бориса Пастернака:
Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.
……………………
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
……………………
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Обосновывать, оправдывать свои поступки, свои суждения ссылками на высшие инстанции — это у Пастернака сложилось с юности и не оставляло его до последних дней. Но сами-то ссылки продуцировал, сочинял он, Пастернак, и в романе не только одному доктору Живаго, но, пожалуй, всем или почти всем героям давал автор в обязательную нагрузку — чтоб довели до сведения читателя — и эти его ссылки, и эти суждения.
Доктору Живаго Пастернак назначил двоякую роль: и своих уст, и своих ушей, или, говоря языком техники, роль приемно-передающего устройства. Тексты же, информация в обоих случаях, естественно, шли от него — от писателя Пастернака.
Помните, Лара, которая никогда не занимала своих дум проблемами Иудина племени, вдруг разразилась тирадой об евреях: «Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили…
Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость».
И заключение, той же Лары: «Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?»
И что же ответил Живаго, которому в этом разе отведена была роль авторских ушей, ибо авторскими устами назначено было в этом монологе быть его зазнобе, Ларе?
Живаго ответил: «Я об этом не думал». Но тут же поспешил добавить: «У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов».
Ну можно ли сочинить большую нелепость: человек говорит, что не думал, и тут же уведомляет, что товарищ его, некий Гордон — по фамилии видать, из какого племени, — «тех же взглядов»! Стало быть, пусть не по своей, пусть по сторонней инициативе, однако же, думал об этом.
Но мало того. И своя инициатива была. Обратимся к части четвертой, «Назревшие неизбежности», глава одиннадцатая. Встретясь с доктором Живаго в прифронтовой деревне, Гордон наблюдал вместе с ним сцену гнусного глумления молодого казака над стариком евреем. Доктор приказал прекратить это глумление и некоторое время, потрясенный, молчал. А потом заговорил — заговорил горячо, с болью, как будто не спутник его, Миша Гордон, а сам он, Юра Живаго, принадлежал к тому же племени, что старик, над которым глумились: «Это ужасно… Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма».
И вслед за этим, как будто для Юрия Андреевича Живаго для самого русский патриотизм есть понятие дискуссионное, он задался вопросом, на который сам же и ответил: «А откуда быть ему (патриотизму. — А. Л.), когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое».
Ну, как вам нравится этот православный человек, этот русский патриот, который восстает на своих, в защиту евреев. Более того, не входя в дискуссию насчет патриотизма, есть он у евреев или нет, Живаго сам доказывает — еврею! — что в России у евреев не только что достаточно, а и вовсе нисколько не должно быть патриотизма, ибо даже враг относится к ним лучше, наделяя их правами, которыми Россия всегда обделяла их.
Стало быть, думал Живаго о еврейском вопросе. Думал, как видим, с разных сторон: и с нравственной, и с гражданской, и с политической, и с философской: «Тут что-то роковое!»