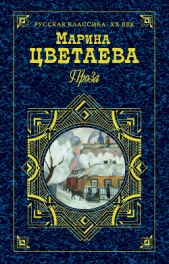Том 4. Книга 2. Дневниковая проза

Том 4. Книга 2. Дневниковая проза читать книгу онлайн
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, парадоксальная метафоричность. В Собрание сочинений включены произведения, созданные М. Цветаевой в 1906–1941 гг., а также ее письма разных лет и выполненный ею перевод французского романа Анны де Ноаль «Новое упование».
Во вторую книгу четвертого тома вошла проза М. Цветаевой, ставшая своеобразной «книгой ее бытия»: дневники, записи из рабочих тетрадей, ответы на анкеты и интервью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщине, если она человек, мужчина нужен, как роскошь, — очень, очень иногда. Книги, дом, забота о детях, радости от детей, одинокие прогулки, часы горечи, часы восторга, — что тут делать мужчине?
У женщины, вне мужчины, целых два моря: быт и собственная душа.
Я абсолютно déclassée. [135]По внешнему виду — ктó я? 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным поясом (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.
Из-под плаща-ноги в безобразных серых рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице — веселье.
Я не дворянка — (ни гонора, ни горечи) и не хозяйка (слишком веселюсь), я не простонародье (слишком <пропуск> и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, — будут носиться!)
Я действительно, абсолютно, до мозга костей, — вне сословия, профессии, ранга. — За царем — цари, за нищими — нищие, за мной — пустота.
— «Монах ребенка украл!»
(Возглас мальчишки на Казанском вокзале, видящего меня мчащуюся с Ириной на руках.)
Тяготение к мучительству. Срываю сердце на Але. Не могу любить сразу Ирину и Алю, для любви мне нужно одиночество. Аля, начинающая кричать прежде, чем я трону ее рукой, приводит меня в бешенство. Страх другого делает меня жестокой.
Из письма:
…Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ.
…Это ныло у меня два года в душе, а теперь воет.
…Я же не одержима, моя одержимость тайная, никто в нес никогда не поверит.
…Люблю Вас и без сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без Вас — спящего без снов! — просто за голову на подушке!
Леонид К<анегиссер>! Изнеженный женственный 19-тилетний юноша, — эстет, поэт, пушкинианец, томные глаза, миндалевидные почти.
(Таким Вы были в январе 1916 г. — мой первый приезд в Петербург!)
3-го — 4-го сент<ября> 1918 г.
Некоторые люди относятся к внешнему миру с какой-то придирчивой внимательностью (дети, дальнозоркие — писатели типа Чехова и А. Н. Толстого).
С такими мне утомительно и скучно.
«И подарил он ей персиянский халат, п<отому> ч<то> стала она тогда уже часто прихварывать».
(Так мог бы кто-нибудь рассказывать о Настасье Филипповне. — Русская «Dame aux Camélices» [136]).
Октябрь. Из письма:
Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие — умопомрачение, а я — вполне трезва.
Я Вас больше не люблю.
Ничего не случилось, — жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, — никогда.
Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась — с высокомерным умилением — и задумалась — с любопытством — о Вас и о ней.
Я — aus dem Spiel. [137]
— Все, что я чувствую к Вам — легкое волнение от голоса, и то общее творческое волнение, как всегда в присутствии ума-партнера.
Ваше лицо мне по-прежнему нравится.
— Почему я Вас больше не люблю? Зная меня, Вы не ждете «не знаю».
Два года подряд я — мысленно — в душе своей — таскала Вас с собой по всем дорогам, залам, церквам, вагонам, я не расставалась с Вами ни на секунду, считала часы, ждала звонка, лежала, как мертвая, если звонка не было, всё, как все, и все-таки не всё, как все.
Вижу Ваше смуглое лицо над стаканом кофе — в кофейном и табачном дыму — Вы были как бархат, я говорю о голосе — и как сталь — говорю о словах — я любовалась Вами, я Вас очень любила.
Одно сравнение — причудливое, но вернейшее: Вы были для меня тем барабанным боем, подымающим на ноги в полночь всех мальчишек города.
— Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю всегда до самой последней возможности.
Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 ч., потом в 6 ч., потом в восьмом, потом совсем перестали.
Вы не разлюбили меня (как отрезать). Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни, и я сделала то же, послушалась Вас, как всегда.
Вы первый забыли, кто я.
Пишу Вам без горечи — и без наслаждения. Вы без горечи — и без наслаждения, Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-нибудь, я просто рассказываю Вам, как знатоку и ценителю — и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи.
(2-го окт<ября> 1918 г.)
Женщина, чуть-чуть улыбаясь, подает левую руку. — Любовь. Примета.
Аля: «Марина! Когда ты умрешь, я поставлю тебе памятник с надписью:
„Многих рыцарей — Дама“,
только это будет такими буквами, чтобы никто не мог прочесть. Только те, кто тебя любили».
— Последнее золото мира! —
(О деревьях в Александровском саду.)
Беззащитность рукописи.
«Перед смертью не надышишься!» Это сказано обо мне.
14-го ноября,
в 11 ч. вечера — в мракобесной, тусклой, кишащей кастрюлями и тряпками столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая слезами собачий воротник — прощаюсь с Ириной.
Ирина, удивленно любуясь на слезы, играет завитком моих волос. Аля рядом, как статуя восторженного горя.
Потом — поездка на санках. Я запряжена, Аля толкает сзади — темно — бубенцы звенят — боюсь автомобиля…
Аля говорит: — «Марина! Мне кажется, что все небо кружится. Я боюсь звезд!»
Из письма:
…Я написала Ваше имя и долго молчала. Лучше всего было бы закрыть глаза, и просто думать о Вас, но — я трезва! — Вы этого не узнаете, а я хочу, чтобы Вы знали. — (Знаю, что Вы все знаете!)
Сегодня днем — легкий, легкий снег — подходя к своему дому, я остановилась и подняла голову. И подняв голову, ясно поняла, что подымаю ее навстречу Вашей чуть опущенной голове.
Мы еще будем стоять так, у моего подъезда, — нечаянно — в первый — в тысячу первый раз.
— Думайте обо мне что хотите (мое веселое отчаянье!). Но прошу Вас! — не валите всего этого на «безумное время».
У меня всегда безумное время.
Милый друг! Вчера вечером и в первый раз в жизни полюбила лифт. (Всегда панически и простонародно боялась, что застряну навек!)
Я подымалась — одна в пустой коробке — на каком-то этаже играла музыка, и все провалы лифта были наводнены ею. И я подумала:
Движущийся пол и музыка. Вся я. — И, задыхаясь от восторга, подумала: Музыка коварными когтями разворачивает грудь.
А через час я встретилась с Вами.
— Я знаю, что я вам необходима, иначе не были бы мне необходимы — Вы.
Аля:
Алино письмо С<ереже>
(27-го ноября 1918 г.)
Милый папа! Я так медленно пишу, что прошу дописать Марину. Мне приятно писать Вам. Часто я Вас ищу глазами по комнате, ища Ваше живое лицо, но мне попадаются только Ваши карточки, но и они иногда оживляются, п<отому> ч<то> я так внимательно смотрю. Мне все кажется: из темного угла, где шарманка, выйдете Вы с Вашим приятным, тонким лицом. Меня слушает всякий шум: кран, автомобиль, человеческий голос. Мне все кажется — все выпрямляется, когда я смотрю. Милый папа, я Вас буду бесконечно долго вспоминать. Целая бездна памяти надо мной. Я очень люблю слово «бездна», мне кажется, есть люди, которые живут над бездной и не погибают в буре.