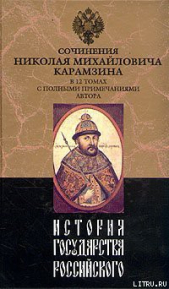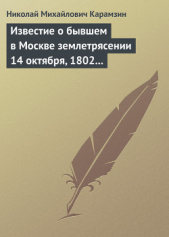Лермонтов

Лермонтов читать книгу онлайн
Новая биография М. Ю. Лермонтова — во многом оригинальное исследование жизни и творчества великого русского поэта. Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не бесспорные, но безусловно, интересные авторские оценки лермонтовского наследия и суждения, не имеющие аналогов в практике отечественного лермонтоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лермонтов всегда сердился на семинариста, видя, как невозмутимо он переносит все эти мелкие унижения, — лучше бы он вовсе не садился за этот дурацкий стол. Но Орлов не пропускал обедов в барской столовой, они ему почему-то нравились. По нему никак не было видно, что он унижен. Он довольно рассеянно ел и с добродушной улыбкой поглядывал вокруг. А после обеда все выходили на балкон, и иногда кто-нибудь, чаще всего мистер Корд, просил Орлова петь. И тот пел русские песни. Ему приносили гитару, он садился на плетеный стул, брал несколько аккордов и запевал чистым, сильным тенором:
Он пел, не обращая внимания на слушателей, одну песню за другой. В окнах флигелей показывались слушающие... Лермонтов понимал, что Орлов никого не развлекает и никому не угождает этим пением. Он пел не для барынь и барышень, а для облаков, сосен, солнечного света... для себя... Бывало, пел долго. После двух-трех песен все расходились. Катерина и Саша тоже исчезали. Дольше всех сидел мистер Корд, которому очень нравились русские песни. Но вот и он поднимается с места. Остается один Лермонтов.
Они сидели молча. Над ними шли в синеве облака. В доме было тихо. Старики и старухи заваливались спать. Орлов иногда начинал разговор о стихах. Он любил Ломоносова, Хераскова, Державина, а Пушкина, Баратынского, даже Жуковского не очень жаловал, да почти и не читал их. Лермонтов много раз пытался втолковать ему, что такое Пушкин. Нет, они — говорил Орлов — пишут темно и нечисто... низким штилем... суют в стихи всякие «чу» или «вот»... Истинно поэтических — словенских — речений совсем почти не употребляют. Важности нет. Восторга... Наконец, как всегда, переходил он к стихам своего брата, гусарского лекаря, неисправимого архаиста, перед которым благоговел, и читал:
Он читал дальше (это был перевод из Горация), а Лермонтов мучительно напрягал память: что такое «презорство»? А там набегали еще неведомые слова. И все теряло смысл и обращалось в словесный грохот. Но этот грохот печатали журналы — «Московский телеграф», например! И «Невский альманах»... «За что Хвостова все ругают, — думал Лермонтов. — Хвостов лучше!» Орлов, певший песни чистым тенором, стихи почему-то читал сипло, с каким-то шипением, но везде раскатывал букву «р»... Лицо его принимало дурацки-вдохновенное выражение. Казалось, песни пел один человек, а вирши читал другой... Но за песни можно было и эти стихи простить.
Лермонтову было жаль Орлова. Он чистый, добрый, ничего лишнего не желает, никого не осуждает. Бедность свою несет достойно. Сюртук его сильно потерт — он один у него. Скупа Екатерина Аркадьевна, в черном теле держит учителя... Из-за этого Лермонтов в гостиной и столовой у Екатерины Аркадьевны часто сидел нахмуренный и мрачный, а все думали, что он занят своими стихами.
Катерина Сушкова не могла и здесь, в деревне, не кокетничать. Мистер Корд, чисто выбритый, худощавый, хорошего роста джентльмен, счел, что, кроме него, некому здесь делать ей комплименты. Он объявил ей за обедом, что у нее необыкновенно красивые глаза.
— Я буду, с вашего позволения, называть вас мисс Черноокая (Miss Black Eyes).
Это всем понравилось, даже старухам и старикам. Сушковой тоже. Лермонтов мрачно промолчал, боясь не сдержать насмешливой улыбки. Красота сама по себе — пустая красота — мало трогала его.
Однажды Сушкова попросила оседлать ей лошадь посмирнее и стала кататься по двору вдоль колоннады. Мистер Корд, Саша, Лермонтов и еще кто-то стояли на террасе. На третьем кругу лошадь тяжело поскакала, Катерина натянула поводья и откинулась назад — с нее слетела шляпа, и волосы, рассыпавшись, плеснули длинной черной волной и покрыли ее всю, чуть не до самых стремян.
— Диана! Диана-охотница! — восторженно крикнул по-английски мистер Корд и захлопал в ладоши. Саша Верещагина тоже сложила раза три вместе свои ладошки и с насмешливым видом покачала головой.
— Так вот для чего понадобилась лошадь, Мишель, — тихо сказала она. — Это она тебя пленяет. Я ей сказала, что ты в нее влюблен. Будь добр, подари ей какие-нибудь стихи. Все равно какие.
Мистер Корд помог Сушковой сойти с седла. Она собрала волосы под шляпу и сказала, смеясь, совершенно непринужденно:
— Ах, какое несчастье, шпильки совсем не держат.
И ушла в дом.
Такую же точно сцену со шпильками она устроила еще раз, в следующее воскресенье.
По воскресеньям, во второй половине дня, Катерина и Саша гуляли в парке. Саша всегда звала при этом Лермонтова, и ему, как он ни отнекивался, приходилось идти. От Саши не отвертишься... Но он не ходил с ними рядом. Бродил вокруг, углубляясь в чащу, даже садился и читал книгу где-нибудь невдалеке от них. Вид у него был почти всегда очень серьезный. Он был занят своими мыслями, обдумывал новую драму.
— Посмотри на него, — говорила Саша Катерине, — прямо Манфред или Лара! Сколько суровости, загадочной мрачности! Чайльд-Гарольд! Он младше тебя на два года и боится, что ты сочтешь его мальчишкой, вот и надувается... Он воображает себя великим поэтом... А что? Вдруг и в самом деле он им станет?
— Но он в самом деле странен. Как жаль, что он еще не юноша.
Последние слова Лермонтов услышал. Не подав виду, что раздосадован, он сказал, что ему нужно идти, и убежал. «Еще не юноша! — в ярости думал он на бегу. — Дура! Видела бы ты мою душу...»
Но вскоре успокоился. Он был один у себя в комнате. «Пятнадцать лет! — сказал он вслух. — Неужели мне всего пятнадцать лет!.. Но разве мои пятнадцать такие же, как и у других?»
Да, конечно, старость ведь не только от долгих лет бывает. Душа может одряхлеть в минуту и утратить все силы. Тогда могила — один исход. Как жить без этого огня — без стихов, без этих огненных волн...
Раза два-три ему случилось побывать и в Федорове, у Верещагиных, и в Большакове у Сушковых, но, как правило, все они предпочитали для прогулок и отдыха середниковский огромный парк, а в ненастную погоду гостиную Столыпиной, где можно было поиграть в карты, поболтать в обществе старушек и детей, помузицировать слегка, посмеяться.
В библиотеке всегда было сумрачно и пусто. Пахло старой кожей и сыростью. Здесь было много книг о войне (Бутурлин, Жомини, Михайловский-Данилевский... французские, немецкие и английские авторы) и до ста книг и брошюр о Наполеоне. Здесь вспыхивал давний интерес Лермонтова к великому полководцу. Давно хотелось ему написать о Наполеоне поэму... И вот он решился, начал ее. Написал вступление — о том, как призрак полководца появляется «в неверный час меж днем и темнотой» на берегу маленького острова в океане, «где сгнил его и червем съеден прах».
Конечно, «гроза бунтует и шумит», «блещет молния», а «недвижная» фигура стоит, пугая «пловцов», в своей неизменной позе, — «руки сжав крестом»... Но дальше поэма не пошла... Написанный отрывок он назвал «думой». Потом написал четырехстрочную «Эпитафию Наполеона», но сразу ее перечеркнул. Да, решил он окончательно, мысль о поэме пока придется оставить.