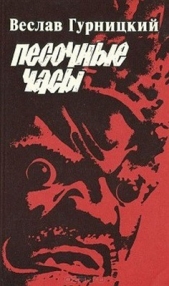Песочные часы

Песочные часы читать книгу онлайн
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».
Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.
Написана легким, изящным слогом. Будет интересна самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером к нам пришел Маринкин папа, мамин брат, и сказал, что хочет со мной поговорить. Мы сидели на кухне, и дядя Иосиф долго, мягко объяснял, почему сейчас опасно переписываться с заграницей. Он говорил, что наши невидимые враги там, за границей, только и думают о том, чтобы завербовать побольше советских людей в свои шпионские сети. Они могут воспользоваться моей доверчивостью и политической незрелостью, и я сама не замечу, как окажусь в их сетях. Конечно, их разоблачат, как разоблачают всех врагов народа, но вместе с ними можем пострадать мы — я и мои родители.
Дядя был журналистом, работал не где-нибудь, а в газете «Правда», я ему верила, я и сама знала, читала, смотрела в кино и про сети, и про врагов народа. Но я-то не собираюсь писать ничего такого! Я хочу просто дружить! С мальчиком! С пионером! Из народной демократии! Там же социализм, как у нас! При чем тут шпионы?!
Когда дядя ушел, я спрятала письмо между страницами альбома для рисования и сверху накрыла коробкой с акварельными красками.
Все равно буду переписываться!
На следующий день, когда я пришла из школы, альбом и краски лежали на своем месте, а письма не было. Я раз десять перелистала альбом, искала в ящиках стола, под столом, на полках…
— Ты идешь, наконец, обедать? — позвала мама из кухни. — Суп давно остыл!
— Мама, ты случайно не видела письма? — спросила я.
— Какого письма? — оскорбленно удивилась мама. — Откуда я знаю, где твое письмо! Где ты его положила, там его и ищи!
— Его там нет.
— А при чем тут я?! Какое я имею отношение к твоему письму?! С какой стати ты меня об этом спрашиваешь?! — закричала мама с такой преувеличенной искренностью, с какой она обычно говорила неправду. Все-таки еще надеясь на чудо, я опять и опять пересматривала, перетряхивала свое хозяйство, даже рылась в мусорном ведре. Всё было бесполезно.
Главное, я не запомнила ни улицы, ни номера дома. Осталось только — България (с твердым знаком), София, Георгий Цветков-Гразданов…
Мрачный утенок
С какого момента детство стало уходить, сменяясь отроческой мрачной замкнутостью, частыми слезами или взрывами возбужденного веселья, обидчивостью, убежденностью, что — хуже других? С чего начался этот мучительный период «переходного возраста»?
Еще, кажется, совсем недавно мы с Наташкой, забравшись под стол, отделялись низко свисающей скатертью от квартирного быта, и наступало чудо полного растворения в игре, какое бывает только в детстве. Мы были медвежатами, может быть, потому что уютно сумеречное пространство под столом казалось нам похожим на берлогу. Мы и говорили не своими голосами, а теми, какими, по нашим представлениям, могли бы говорить медвежата.
Или, положив на пол стулья, соединив их ножки так, чтобы получилось подобие кабины, мы забирались вовнутрь и играли, как будто летим на самолете. Это были так называемые «венские» стулья с круглыми сидениями. В лежачем положении эти сидения представляли собой подобие руля, и ощущение полета, крена при поворотах было таким реальным, что когда, спустя много лет, студенткой на целине, упросив летчика Мишу, я впервые поднялась в воздух на маленьком Як-12, возникло чувство, что я не в настоящей кабине, а снова в опрокинутых стульях.
Куда оно стало исчезать? Нет, совсем оно не исчезло, только стало скрытнее. Теперь уже одна, без Наташки, я уходила в игру как в спасение от неприятностей. Я — юнга из повести Ликстанова, матрос Полевой из «Кортика», в моем воображении прокручиваются события книг, фильмов, чьих-нибудь рассказов, и я герой этих событий. Всегда юноша. Девочкой быть не хочется. Хочется оставаться безгрудой, по-мальчишески худой, без этих болезненно набухающих грудных желез и других признаков развивающейся женственности, которые мешают как тяжелая шуба, надетая в жаркий день: нелепо, неудобно, давит, а нужно притворяться, что всё нормально.
Угрюмая скованность, доходящая до тупости. Страх обратить на себя внимание. Мечта о шапке-невидимке, о волшебнике, который — ценой любых моих мучений — сделает меня красивой. Даже не надо красивой — хотя бы симпатичной. Чтобы, когда я иду по улице с подругой, смотрели не только на подругу, но и на меня. Почему на меня не смотрят? Может быть, потому что я заранее уверена, что никому не могу понравиться, эта хмурая уверенность написана на моем лице и делает свое дело?
Мама говорит, вздыхая:
— Боюсь, что у тебя будет папин нос.
Словно, не размышляя, пустила отравленную стрелу — вовсе не желая попасть, но попала, и яд медленно проникает во все уголки моего существа. Я подолгу рассматриваю в ванной свое лицо и реву. Почему я не унаследовала мамин курносый носик и круглое хорошенькое личико?! Про моего брата говорят: «папин юмор». А у меня, значит, папин нос. Какой кошмар.
Мы играем в волейбол, и Мишка говорит с досадой:
— Мадам, вы тут не для мебели поставлены!
И эта фраза в меня — как тяжелый ком: мадам! Что-то жирное, жабье. Вот, значит, я какая в глазах Мишки!
Делимся во дворе на команды — играть в круговую лапту, и вдруг по чьему-то искоса брошенному взгляду и ответному чьему-то кивку понимаю, что меня не хотят брать ни в ту, ни в другую команды, потому что я — дыра, пустое место, мазила. И это понимание — или самовнушение — опять как удар, ослепляет и оглушает, отбрасывает от волейбольной площадки в угол под лестницей третьего подъезда — выплакивать обиду.
Крутя веревочку, смотрю, как легко и пружинисто прыгает Аня, и с завистью думаю, что я так не умею. И правда, не умею! Если играем во дворе в салки, меня салят первую, потому что я не увертлива. На уроке физкультуры не могу подтянуться на турнике, несуразно дрыгаю ногами, и все смеются.
И вот уже сама начинаю искать во взглядах окружающих насмешку над собой, и постоянное ожидание этой насмешки все больше погружает меня в угрюмую пучину скованности.
Папин соавтор приводит на премьеры своего сына Шурика, на два года младше меня, в отглаженном пионерском галстуке, с благовоспитанным румяным лицом круглого отличника. Я кажусь себе рядом с ним угловатой, громоздкой, с какими-то тайными неудобствами в одежде, о которых все время нужно помнить: чулок при ходьбе уползает в туфлю, лямка от комбинации не держится на плече, и нужно как-то исхитриться, поправить ее через платье. В слишком туго заплетенной косе больно тянет какой-нибудь волосок. А главное — эта кошмарная вечно сползающая штанина!
— Не горбись! — не глядя, шепотом, со светской — на публику — улыбкой говорит мама. — Не будь такой мрачной! Посмотри, как Шурик себя держит!
От невозможности стать похожей на безукоризненного Шурика я мрачнею еще больше, мне обиден, но и понятен мамин стыд за меня, ее огорчение, что у нее, такой миленькой, приветливой, и у папы, такого известного — к нему все подходят, поздравляют, — такая некрасивая дочь, с толстым носом и унылым лицом.
Это называется — «дикая». И правда, дикая: если приходят гости — прячусь на кухню, а потом, подкравшись к двери кабинета, гляжу на гостей в щелку, как они сидят за круглым столом, едят, выпивают, рассказывают истории, прерываемые общим хохотом, и сама хохочу под дверью, зажимая рот ладонью. Но стоит кому-нибудь обернуться к двери — шмыгаю на кухню, как мышь в нору.
…А с фотографий тех лет смотрит девочка как девочка: ровные зубы, светлые, широко расставленные глаза, толстая светлая коса с бантом. И нос вовсе не «папин». Откуда же это чувство угнетенности, это убеждение, что хуже всех?
Мама изобличает:
— Тебя видели без очков! Ты мне опять врешь! Ты говоришь, что носишь их, а сама не носишь! Ты ослепнешь! Пойми, они тебе идут! Без очков ты уродка!
Без очков — уродка, а в очках — тем более.
Эти очки — минус два, в круглой металлической оправе, которая давит за ушами и натирает переносицу — мне прописали недавно и велели носить, не снимая, но я их снимаю тут же, как только выхожу из дома. Очень нужно слушать о себе: «очкарик», «очкастая».