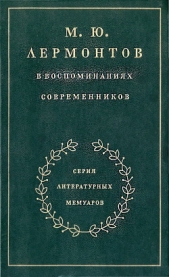А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 1

А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 1 читать книгу онлайн
Воспоминания современников о Пушкине имеют одну особенность, которая обнаруживается лишь тогда, когда тексты их собраны вместе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пушкин начал подражанием всему, что застал он в русской поэзии: он писал оды в роде Державина, но превзошел его; как Жуковский, он подражал старым народным песнопениям, но и его превзошел окончательностью формы и особенно же полнотою творчества (la largeur de ses compositions). Обыкновенно писатель проходит чрез школы, до него существовавшие: он перелетает сферы минувшего, чтобы возвыситься в будущем.
За подражаниями Байрону Пушкин бессознательно подражал также и Вальтеру Скотту. Тогда много толковали о краске местности, об историческом изучении, о необходимости воссоздавать историю в поэзии. Последние творения Пушкина колеблются между двумя этими направлениями: он то Байрон, то Вальтер Скотт. Он еще не Пушкин.
Далее Мицкевич называет «Онегина» оригинальнейшим созданием Пушкина, которое читано будет с удовольствием во всех славянских странах. Он излагает в нескольких строках ход поэмы и говорит:
Пушкин не так плодоносен и богат, как Байрон, не возносится так высоко в полете своем, не так глубоко проникает в сердце человеческое, но вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме. Его проза изумительной красоты. Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои. С высоты оды снисходит до эпиграммы, и среди подобного разнообразия встречаешь сцены, достигающие до эпического величия.
В первых главах романа своего Пушкин, вероятно, не имел еще в виду развязки, которою он роман кончает: иначе не мог бы он с такою нежностью, с такими простосердечием и силою изобразить молодых этих людей (Ленский, Ольга и Татьяна) и кончить рассказ свой таким грустным и прозаическим образом. (Вероятно, критик указывает здесь на браки двух сестер. Впрочем, он, кажется, совершенно правильно угадал, что поэт не имел первоначально преднамеренного плана. Он писал «Онегина» под вдохновениями минуты и под наитием впечатлений, следовавших одно за другим. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная графиня Шувалова, известная в конце минувшего столетия своею любезностью и французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: «Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте хорошенько участь ее». — «Будьте покойны, княгиня, — отвечал он, смеясь, — выдам ее замуж за генерал-адъютанта». — «Вот и прекрасно, — сказала княгиня. — Благодарю». Легко может быть, что эта шутка порешила судьбу Татьяны и поэмы.) Эта поэма проникнута грустью более глубокою, чем та, которая выражается в поэзии Байрона. Пушкин, начитавшись романами, разделявший чувства друзей своих, молодых, заносчивых либералов, ощущает жестокую пустоту обманов: оттого и разочарование его ко всему, что есть великое и прекрасное на земле, и Пушкин, рисуя байрониста, делает свой собственный портрет.
Пушкин был таков. Другая личность романа, молодой русский с распущенными волосами, поклонник Канта и Шиллера, энтузиаст и мечтатель, тоже Пушкин в одной из эпох жизни его. Поэт предсказал собственную участь свою. Пушкин, как и созданный им Владимир, погиб на поединке вслед за незначительною ссорою.
Замечательно, как, продолжая Онегина и задумав поссорить его с Ленским, Пушкин был сильно озабочен поединком, к которому ссора эта должна была довести. В этой заботе есть в самом деле какое-то тайное предчувствие. С другой стороны, есть в ней и признак подвластности его Байрону. Он боялся, что певец «Дон-Жуана» упредит его и внесет поединок в поэму свою. Пушкин с лихорадочным смущением выжидал появлений новых песней, чтобы искать в них оправдания или опровержения страха своего. Он говорил, что после Байрона никак не осмелится вывести в бой противников. Наконец убедившись, что в «Дон-Жуане» поединка нет, он зарядил два пистолета и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум приятелям. Заботы поэта не пропали. Поединок в поэме его — картина в высшей степени художественная; смерть Ленского, все, что поэт говорит при этом, может быть, в своем роде лучшие и трогательнейшие из стихов Пушкина. Правда и то, что Ленский только смертью своею и возбуждает сердечное сочувствие к себе (в чем, вопреки указаниям Мицкевича, вовсе не сходится он с Пушкиным). Когда Пушкин читал еще не изданную тогда главу поэмы своей, при стихе:
Друзья мои, вам жаль поэта... —
один из приятелей его сказал: «Вовсе не жаль»! — «Как так»? — спросил Пушкин. «А потому, — отвечал приятель, — что ты сам вывел Ленского более смешным, чем привлекательным. В портрете его, тобою нарисованном, встречаются черты и оттенки карикатуры». Пушкин добродушно засмеялся, и смех его был, по-видимому, выражением согласия на сделанное замечание.
При воспоминаниях о пребывании польского поэта в Москве приходит на ум довольно странное сближение. Замечательно, что упрек его Пушкину, что он слишком подчинял себя Байрону, был гораздо прежде обращен к нему самому. Еще в 1828 году умный и, к сожалению и к стыду нынешнего поэтического чувства, мало оцененный Баратынский говорит в прекрасных стихах:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик...
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он.
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный,
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
Мицкевич был не только великий поэт, но и великий импровизатор. Хотя эти два дарования должны, по-видимому, быть в близком родстве, но на деле это не так. Импровизированная, устная поэзия и поэзия писаная и обдуманная не одно и то же. Он был исключением из этого правила. Польский язык не имеет свойств певучести, живописности итальянского: тем более импровизация его была новая победа, победа над трудностью и неподатливостью подобной задачи. Импровизированный стих его свободно и стремительно вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкою чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упояющая, мысль и воображение не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее еще памятно, но, за неимением положительных следов, впечатления непередаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге[126
].
В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатления, которые производила она своим полным и звучным контральто и одушевленною игрою в роли Танкреда, опере Россини. Помнится и слышится еще, как она, в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела элегию его, положенную на музыку Геништою: