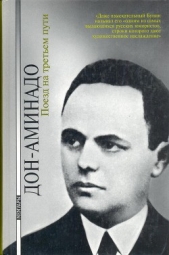Поезд на третьем пути

Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
Книга представляет собой воспоминания литератора, чья юность прошла еще в дореволюционное время. После Октября Дон-Аминадо эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Память о России, литературная жизнь, портреты современников — все это нашло отражение в интересной книге писателя.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одна длилась столетия, другой отсчитано восемь месяцев.
Избави нас Бог от жалких слов, любительских суждений, неосторожных осуждений.
А пуще всего — от безответственного наездничества и кавалерийского наскока.
Хихикать и подмигивать предоставим госпоже де-Курдюковой, которую выдумал Мятлев, а воплотило в плоть и кровь всё, что было худшего в зарубежье.
Начиная от сменовеховцев двадцатых годов и кончая нынешними шестидесятниками, кои, доехав до Минска при Гитлере, удалились под сень мюнхенских Bierhalle для бредовых объединений и расторопных манифестов.
И все-таки, надо сказать правду: заворушка, превратилась в драму, драма — в трагедию, а учредительное собрание разогнал матрос Железняк. Почему, и как всё это произошло, объяснит история…
Которая, как известно, от времени до времени выносит свой «беспристрастный приговор».
Князь Львов был человек исключительной чистоты, правдивости благородства.
Павел Николаевич Милюков был не только выдающимся человеком и великим патриотом, но и прирожденным государственным деятелем, самим Богом созданным для английского парламента и Британской Энциклопедии.
А когда старая, убелённая сединами, возвратившаяся из сибирской каторги, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и матерински облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, — умилению, восторгу, и энтузиазму не было границ.
— При мне крови не будет! — нервно и страстно крикнул Александр Федорович.
И слово своё сдержал.
Кровь была потом.
А покуда была заворушка.
И, вообще, всё Временное Правительство, с Шингарёвым и с Кокошкиным, с профессорами, гуманистами, и присяжными поверенными, всё это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, тёмной, забитой, и безграмотной России, на четвёртый год изнурительной войны.
И вот и пошло.
Сначала разоружили бородатых, малиновых городовых, и вёл их по Тверской торжествующий и весёлый Вася Чиликин, маленький репортёр, но ходовой парень.
Через несколько лет он станет редактором харбинских, шанхайских и тянь-тзинских листков, и будет получать субсидии то в японских иенах, то в китайских долларах.
Вместо полиции, пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участковых приставов присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.
Примечание для любителей:
— Одним из них был и некий Вышинский, Андрей Януарьевич.
Вслед за милицией появилась красная гвардия.
И, наконец, первые эмбрионы настоящей власти:
— Советы рабочих и солдатских депутатов.
Естествознание не обмануло революционных надежд.
Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки, с винтовками за плечом, с маузером под крылышками.
Мотыльки стали разъезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать, вообще говоря, — углублять революцию.
Керенский вступил в переговоры, сначала убеждал, умолял, потом тоже угрожал, но не очень.
Тем более, что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали.
Грузовиков становилось всё больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали.
А с театра военных действий приходили невеселые депеши.
— От генерала Алексеева, от Брусилова, от Рузского, от Эверта.
В порыве последнего отчаяния, в предчувствии неизбежной катастрофы, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил пламенные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию, и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками, возвращался из ставки в тыл.
А в тылу шли митинги, партийные собрания, совещания, заседания, что ни день возникали новые комитеты, советы, ячейки, боевые отряды; и министр труда принимал депутацию за депутацией, и не просил, а умолял:
— По крайней мере не стучать кулаком по столу!
Но глава депутации не смущался, опрокидывал министерскую чернильницу царских времён, и начинал зычным голосом:
— Мы, банщики нижегородских бань, требуем…
Продолжение следовало.
И на плакатах уличной демонстрации уже было ясно написано аршинными буквами:
— Товарищи, спасайте анархию! Анархия в опасности!..
В так называемых лучших кругах общества, начиная от пёстрой по составу интеллигенции, еще так недавно исповедывавшей весьма левые, крайние убеждения, и до либеральной сочувствовавшей буржуазии, тайком почитывавшей приходившую из Штутгарта «Искру» и «Освобождение», — царила полная растерянность, распад, нескрываемая горечь и уныние.
— Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. — мрачно повторял один из умнейших и просвещённейших москвичей, Николай Николаевич Худяков, профессор Петровско-Разумовской Академии, обращаясь к своему старому приятелю, Якову Яковлевичу Никитинскому, написавшему энное количество томов по вопросу об азотном удобрении.
Никитинский, несмотря на почтенный возраст, был неисправимым оптимистом, и в пику Худякову, который всё ссылался на Карлейля, возражал ему с юношеской запальчивостью:
— Я, Николай Николаевич, из научных авторитетов признаю только один.
— А именно?
— А именно, лакея Стивы Облонского. Великий был мудрец, хорошо сказал: увидите, образуется!
Через несколько недель скис и сам Яков Яковлевич.
За новым чаепитием, в уютной профессорской квартире на Малой Дмитровке, Худяков не удержался и, не глядя на начинавшего прозревать приятеля, бросил куда-то в пространство:
— А в общем, Никитинский был прав, действительно всё в конце концов образуется.
Вот и образовалась опухоль, и не опухоль, а нарыв. И если его во время не вскрыть, произойдет заражение крови…
Интеллигентское чаепитие давно окончилось; нарыв, как известно, был вскрыт; а что вслед за вскрытием не только произошло заражение крови, но что продолжается оно и по сей день, — этого не мог предвидеть не только Худяков, но и все профессора всего мира, вместе взятые.
По ночам ячейки заседали, одиночки грабили, балов не было, но в театре работали вовсю.
Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца.
Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.
Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом:
— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам её даю! Даю и говорю — шёлковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Уррра! Уррра!
А неподалеку от Скобелева, в Музыкальной Табакерке, на углу Петровки и Кузнецкого Моста, какие-то новые дамы, искавшие забвения, отрыва, ухода от прозы жизни, внимали Вертинскому, и Вертинский пел:
Возможно, что все это было очень кстати.
Но так как одним ладаном жив не будешь, то для душевного отдохновения читали «Сатирикон» и потом собственными словами рассказывали то, что написал Аверченко.
Каждый номер «Сатирикона» блистал настоящим блеском, была в нём и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе.
Всё это прошло, и быльём поросло.
Пожелтевшие страницы старых комплектов, журнальных и газетных, можно только перелистывать.
Читать их невозможно.
Все, что было написано и напечатано, все эти стихи, пародии, ядовитые фельетоны, нравоучительные басни, жёлчные откровения, и заостренные сатиры — отжило свой век, который длился день или месяц.
От былого огня остался дым, который уносится ветром.