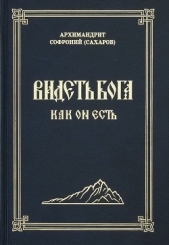Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бежит однажды Соня ко мне, глаза — из орбит. Только что с новым этапом прибыл следователь по их делу, который ее бил и оскорблял, но теперь, видимо, и сам попался. Полубезумная от волнения, она решила рассказать мужчинам, кто прибыл. Может быть, его и не посадили, а «подсадили», но показать его всем необходимо. Но и он, видимо, заметил Соню: его в те же сутки отправили от нас за 20–30 минут.
А вообще они жили меж нами, пока не были кем-либо опознаны. Так, еще в Черте заходил ко мне делать ванночки на якобы больной триппером орган молодой сероглазый советский лейтенант в добротной шинели. Жил он в одном бараке с «госпреступниками». Очень активен был и не бесталанен в самодеятельности, отличившись особо в отрывках из «Роз-Мари», поставленных залетевшим к ним опереточным режиссером, очень умело имитировавшим эпилепсию. Фамилия офицера запомнилась: Серегин. Я с ним была в наилучших отношениях. И вот, спустя года два, уже в Киселевском лагере, он в высоком чине, в щегольской форме с голубым прибыл в зону с комиссией ИТК по поводу нашего театра. На меня он смотрел, как на пустое место, я, понятно, тоже его «не узнала».
Но вернусь к побегам. Их наши стражи боялись как пожара, за их допущение в советском государстве каждый мог очутиться под стражей.
О двух смелых побегах политических рассказать стоит. Техника одного: дежурный по зоне начальник — не помню должность — напился на ночь чаю в дежурке и, заказав дневальному зеку разбудить его «в случае чего» снял фуражку, шинель, сапоги и прилег. Проснулся, когда пришел сменщик. Почему же не разбудил ночной дневальный в дежурке? И где сапоги, шинель и фуражка? На столе лежала бритва и пучок волос: дневальный сбрил бороду, чтобы не отличаться от бритого дежурного офицера.
В проходной двое полусонных надзирателей играли в шашки, третий дремал, остальные солдаты находились в штабе, за зоной. Оба шашечника уверяли, что близко к рассвету дежурный офицер прошел мимо со словами: «Сейчас вернусь. Я в штаб. Не дремлите здесь». Две собаки, лежавшие рядом, не шевельнулись. Оказывается, дневальный часто с ними общался, кормил их, принося ужин для дежурных из лагерной кухни, или при мытье пола.
В дежурках, примыкавших к проходной, дневальным был средних лет мужчина с бородой, по 58 статье, но солидный, начальством уважаемый, считался среди нас сексотом. Ростом и фигурой схож с оплошным офицером. Выяснилось, очень хорошо умел передразнивать голоса начальства, чем очень смешил, а иногда пугал товарищей по жилому бараку. Часовые с вышек видели, как подняв от мороза воротник, «дежурный офицер» действительно прошел к штабу. Один из них по уставу крикнул: «кто идет?» и в ответ услышал фамилию дежурного.
Мы проснулись от лая собак, треска пулеметных очередей и ракет, осветивших еще темную окрестность. Собаки брали след до самого штаба, потом потеряли. Снега не было. Доморощенные криминалисты ломали голову, куда исчез, дойдя до штаба, бежавший. Его не нашли, иначе нам показали бы пойманного.
Шептались вольные фельдшерицы, будто у злополучно заснувшего офицера в анализах обнаружили что-то снотворное, но вслух рассказать мне не решились. С тех пор в вольные дежурки перестали брать дневальными зеков. Что случилось с офицером оплошным, не знаю, да и не жаль: порядочный человек в составе НКВД работать не будет, можно уйти под каким-либо предлогом.
Второй дерзкий побег «политического» случился в Киселевке, пока я бедовала в Анжерке. Днем. На первый день Пасхи, в тот день, когда нас с Викой отпускали «на свободу», (см. ниже). Побег этот чуть не решил судьбу организующегося в Киселевке театра, ибо бежавший был цирковой артист с 58 статьей.
Киселевская зона с одной стороны была огорожена не тесом, а колючей проволокой. Вокруг шло строительство будущего вольного поселка шахты Тайбинка. Вдоль ограды лежали груды строительных материалов, и в том числе длинные, как шесты, алюминиевые трубы. Одна из них концом заходила под проволокой в зону. В зоне, не в пример обычным лысым пятакам, росли деревья, так что с вышек она просматривалась неясно.
На Пасху, в день туманный и мглистый, на закате зеки сидели по баракам, двор зоны опустел. Начальники были пьяны. Часовые на вышках тоже «кемарили». Беглец-циркач потянул к себе трубу-шест, торчавший концом в зону, оперся о него и перемахнул через проволоку и огражденную «огневую зону» — «запретку». Шест-труба так и остался одним концом на проволоке лежать. Обнаружилось все это при вечерней уже поверке. Установили — кто бежал. Владимир Георгиевич Щербаков рассказывал: прибежал к нему, ломая руки, Иван Адамыч: «Не будет театра! Гимнаст бежал!».
Куда исчез гимнаст — так и не узнали, видимо, прятался в ближайших окрестных домах. Начсанчастью рассказывал: все они были восхищены столь смелым побегом и искали не столько беглеца, сколько его сообщников. Мы боялись — деревья срубят. Не тронули, только проволоку заменили деревянными палями, что огорчительно для зеков закрыло для них открытые дали. Беглеца материли.
Месяц спустя, мы, женсостав театра, прибыли на этот лаг-участок. Вновь назначенный начнадзора, перепуганный насмерть, что «из-за баб» начнутся новые побеги или резня, закричал: «Ищите у них ножи!» Помнящие меня надзиратели смеялись.
9. Лагерные волки
Изо всей Кемеровской области в Киселевскую зону идут и идут этапы «политических». Тут за одной оградой собирают «контриков», густо прослоенных блатяками с 58–14 статьей. Вдвоем с доктором Тоннером мы ведем комиссование этапов. Врач редко-редко одобрительно и с удовольствием похлопывает по щечкам ягодицы, сохранившие округлость и упитанность. Таких мало. В большинстве серые мешочки ягодиц симметрично свисают, как маленькие пустые мехи: голодно, голодно повсюду. А коли этого главного признака алементарной дистрофии — тощих ягодиц нет, такой зек получит первую категорию труда, хотя все остальное у него, быть может, и не в порядке. Иногда послушают сердце.
— «Прима, секунда, терция» — диктует врач мне, сидящей над списком. Смотрит преимущественно зады. Тоннер сидит давно, половина заключенных области с их болезнями ему хорошо известна по прежним лагучасткам.
Латинские термины обозначают категорию труда, на которую заключенный доверенный врач обрекает вновь поступившего имярека. Эту завуалированную терминологию «кухонной латыни» не понимают только темные новички.
— Шо вин казав, — минута? — спрашивают меня потом такие простаки. Заключенный ничего не должен знать о своей судьбе, поэтому и в санчасти прибегаем к таким приемам. «Кварта» звучит редко, только при осмотре тех, кто уже не стоит. Кварту мы госпитализируем сразу после комиссования. Ну разве санчасть — не островок гуманности?!
— «Прима!» — Жестко диктует мне врач, кинув взгляд на чей-то вовсе отвислый зад, обладатель которого по старому знакомству в прежнем лагере подобострастно приветствует доктора, опуская штаны. Услышав «прима», доходяга пошатывается, в глазах у него ужас.
— Прима! — жестко повторяет доктор, и лучи его ресниц сближаются злобно, и упрямый волчий оскал уродует красивый рот.
Дядька еще что-то безуспешно бормочет, его оттесняют в очереди, он горько вздыхает и, застегивая штаны, отходит в унынии: завтра с «примой» ему идти на самую тяжелую работу, где так ослабевшему легко погибнуть, как мухе.
Этап откомиссован. Подле фамилии доходяги я написала: «терция». Иван Петрович поднимает брови.
— Вы, вероятно, оговорились, доктор — говорю я. — Он же безусловный дистрофик!
— Евгения Борисовна, — мягко отвечает врач, кинув на меня снопик лучей-ресниц. — Прошу мои «оговорки» не поправлять. Я учу людей уважать медицину. По милости этого субъекта я в Сталинске две недели на общие работы выходил…
Я-то уж знаю, что такое для работника санчасти попасть «на общие». Хорошо, если бригадир «уважает медицину» и позволит «кантоваться», а, если по отсутствию лагерного опыта, — не уважает (бригадирами обычно бывали бывшие крупные партработники — им не давали «пропасть»), — тогда что? Даже издевались специально: «Ты, сестра, кайлом работай, как шприцем, как шприцем!».