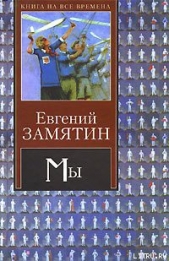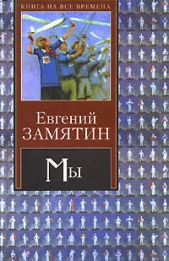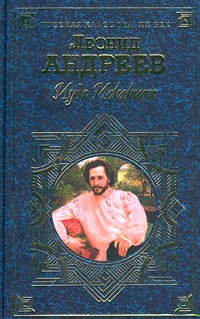Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.

Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв. читать книгу онлайн
В книге речь идет об особом месте так называемого малого жанра (очерк, рассказ, повесть) в конце XIX - XX вв. В этой связи рассматриваются как произведения Л.Толстого и Чехова, во многом определившие направление и открытия литературы нового века ("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Скучная история", "Ариадна"), так и творчества И.Бунина, Л.Андреева и М.Горького, их связи и переклички с представителями новых литературных течений (символисты, акмеисты), их полемика и противостояние.
Во втором разделе говорится о поэзии, о таких поэтах как Ф.Тютчев, который, можно сказать, заново был открыт на грани веков и очень многое предвосхитил в поэзии XX века, а также - Бунина, в стихах которого удивительным образом сочетались традиции и новаторство. Одно из первых мест, если не первое, и по праву, принадлежало в русском зарубежье Г.Иванову, поэту на редкость глубокому и оригинальному, далеко еще не прочитанному. Вполне определенно можно сказать сегодня и о том, что никто лучше А.Твардовского не написал об Отечественной войне, о ее фронтовых и тыловых буднях, о ее неисчислимых и невосполнимых потерях, утратах и трагедиях ("Василий Теркин", "Дoм у дороги").
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сходную эволюцию переживают и взгляды героя на природу счастья, любовь и женщин. Если прежде, как ни горько было ему при этом, он позволял себе «теоретизировать»: «…когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь» (Б, 4, 377), то после всего случившегося он убеждено повторяет слова мудрого Соломона: «Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! „Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью…». А-а, женщина! „Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам”» (Б, 4, 383).
Очень немногое вспоминается капитану из прошлой жизни. Но эти редкие эпизоды, которые постоянно тревожат его память, следует отнести к центральным, ключевым. Герой вновь и вновь пытается найти и определить для себя первопричину своей трагедии, начало конца. Он приходит к выводу, что виной всему излишне сильная привязанность и любовь его к дому, дочке и жене. «А разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он <…> Жутко жить на свете, Чанг <…> очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь» (Б, 4, 377). В прямой связи с этим выводом находится эпизод, вспоминаемый капитаном; именно к нему восходит начало его крушения: „У-у! — сказал капитан <…> Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, – в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?». Тут я даже слова не мог выговорить» (Б, 4, 382). Бунин немало размышлял о механизме человеческой памяти, о той роли, которую играют воспоминания в повседневной жизни и творчестве. Вспоминающие свою жизнь герои, о которых говорилось выше, приходившие при этом к неутешительному выводу, что минувшее в его последовательном течении неподвластно памяти, невосстановимо и утрачено безвозвратно, охотно, думается, согласились бы с писателем, однажды заметившим:
«Что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни? Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства <…>
Принято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то, что недавнее еще недостойно памяти — еще не преображено, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для творчества потребно только отжившее, прошлое. Restitutio in integrum [103] — нечто ненужное (помимо того, что невозможное)» (Б, 9, 366).
Бунинское высказывание удивительно близко и созвучно размышлениям Толстого, который в решении этой проблемы стремился найти свою формулу, понять и определить, что же отличает события, происходящие в реальной действительности, от таковых же, преображенных в памяти вспоминающего человека. «Отчего одно и то же в действительности серо, не важно, не красиво — и радостно, ясно в воспоминании? — спрашивал Толстой. – Не от того ли это, что настоящее, истинное есть только духовное, действительность же, реальность, как говорят, это только леса, подставляемые для постройки настоящей духовной жизни» (Т. 51, 13).
«Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, — писал Л. Толстой, — та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом» (Т, 53, 94).
«Тайны», «загадки» души — и, прежде всего, славянской, русской души, — по признанию самого Бунина, стали волновать его еще в молодости. Рассказывая о пристальном интересе своем к личности писателя-народника А. И. Левитова, повседневное поведение которого изобиловало необъяснимыми неожиданными драматическими поворотами и «зигзагами», Бунин добавляет: «Увлекался я в молодости и Николаем Успенским, и опять не только в силу его дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание» (Б, 9,274).
К изображению этих «тайн» и «загадок» души и характера Бунин обращается далеко не сразу. В первые полтора-два десятилетия он касается преимущественно настроений героев. Среди настроений этих, как правило, неоднозначных, по составу, сплаву своему довольно сложных, преобладают в основном лирические и лирико-философские. Привлекают внимание писателя едва уловимые оттенки и переходы в настроениях. Можно назвать в этой связи рассказы «На край света» и «На чужой стороне» (1895), где речь идет о крепнущем чувстве одиночества, неизбывном горе людей, переселенцев, навсегда покидающих родные места, землю отцов. В этот ряд можно поставить и этюд «Поздней ночью» (1901): в нем лунная ночь в Париже напоминает лирическому герою почти забытые осенние ночи, которые он видел «когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России», и эти чувства побуждают его помириться с женой, сказать ей: «… мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле» (Б, 2, 177, 178). Во всех этих, как и в упоминавшихся уже этюдах и рассказах («Перевал», «На хуторе», «Кастрюк», «Над городом», «Сосны», «В августе», «Антоновские яблоки», «Эпитафия» и др.), нет никаких «тайн» души, нет ничего загадочного. В большинстве из них, как мы видели, воспроизводятся настроения, вызванные размышлениями о «беспощадно»» уходящем или уже ушедшем времени.
Одну из первых попыток изобразить труднообъяснимое поведение, житейски нелогичные и неожиданные поступки и решения персонажа находим в рассказе «Заря всю ночь» (1902). В данном случае действительно трудно «высказать простым словом», из каких соображений героиня этого произведения решает вдруг отказать своему жениху Сиверсу. Ведь перед тем читателю становится известно, что ее «еще в детстве называли его невестой», и хотя «он тогда очень не нравился» ей «за это», потом ей «уже нередко думалось о нем как о женихе», а незадолго до сватовства она «начала свыкаться с мыслью», что будет его женой. И вот приходит ночь, которую проводит без сна: «…что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари». Мужчина, с которым она «мысленно проводила эту самую нежную ночь» своей «первой любви», был не похож на Сиверса, и все-таки ей казалось, что она думает о нем. Вспомнив «шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в их сад на свидание с ней, героиня стала пристально всматриваться «в зыбкий сумрак» и переживать в воображении все, что «сказала бы ему едва слышным шепотом». «Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью. …Я еще чего-то ждала <…> И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня, – то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня — и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти» (Б, 2, 262, 264, 265, 266).
Сиверс пришел утром, когда она еще спала. Он стрелял в их саду галок, а ей сквозь сон «казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом». Он пришел, чтобы сделать ей предложение, и, подойдя к дверям ее спальни, крикнул: «Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!». «А мне, — приводит Бунин размышления героини, – и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему, — теперь я знала это уже твердо» (Б, 2, 266) [104].
Начало 1910-х годов принято считать поворотным этапом в творчестве Бунина. Это признавал и сам писатель. В это время выходят в свет его повести «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911), принесшие автору широкую известность. В эти же годы заметно обостряется интерес Бунина к «тайнам» души и «загадкам» характера. Позднее Бунин подчеркнет, говоря об этом периоде: