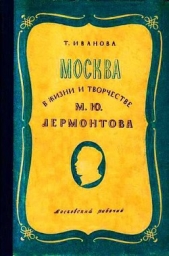М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Вышедшая в 1891 году книга Павла Висковатого (он же — Висковатов) — первая полноценная биография Лермонтова, классический труд, приравненный к первоисточнику: она написана главным образом на основании свидетельств людей, лично знавших поэта и проинтервьюированных именно Висковатым. Этой биографией автор завершил подготовленное им первое Полное собрание сочинений поэта, приуроченное к 50-летию со дня его гибели.
Вспоминая о проделанной работе, Висковатый писал: «Тщательно следя за малейшим извещением или намеком о каких-либо письменных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я не только вступил в обширную переписку, но и совершил множество поездок. Материал оказался рассеяным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа...» (от издательства «ЗАХАРОВ»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уповаю на вашу преданность мне, —
заключает он письмо, как бы невзначай. Велика была в нем потребность искренней дружбы и сердечного понимания, иначе он не писал бы так откровенно, с такой болью и теплотой.
Чего стоили Михаилу Юрьевичу два проведенных в „школе“ года, видно и из письма его от 23 декабря 1834 года, когда он, только что произведенный в офицеры в Царском Селе, был приятно поражен нечаянным приездом своего друга Алексея Александровича Лопухина.
... Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис. Когда известие пришло ко мне, я едва не сошел с ума от радости; я накрыл себя разговаривающим с самим собою, я смеялся, пожимал руки самому себе. Мгновенно возвратился и к моим прошедшим... двух страшных лет как не бывало...
Итак, тягостны были для Лермонтова два года, проведенные им в школе юнкеров, и охотно, может быть, вычеркнул бы он их из своей памяти, но пришел и им конец, конец годам воспитания. Пришла пора ступить за порог и выйти в жизнь, как казалось, вольным человеком, равноправным членом общества. Приказом Государя, данным в Риге 25 ноября 1834 года, Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии гусарского полка.
ГЛАВА Х М. Ю. Лермонтов по выходе из школы гвардейских подпрапорщиков
Кутежи и шалости. — Монго-Столыпин. Дружеская связь его с поэтом. — Лермонтов в салонах петербургского общества. — Е.А. Хвостова. — Женщины — друзья Лермонтова.
Лейб-гвардии гусарский полк, в офицерский круг которого вступил Лермонтов, был расположен в Царском Селе. Бабушка не поскупилась хорошо экипировать своего внука и дать молодому корнету всю обстановку, почитавшуюся необходимой для блестящего гвардейского офицера. Повар, два кучера, слуга — все четверо крепостные из дворовых села Тарханы, были отправлены в Царское. Несколько лошадей и экипажи стояли на конюшне. Бабушка, как видно из письма ее, писанного из Тархан осенью 1835 года, кроме денег, выдаваемых в разное время, ассигновала ему десять тысяч рублей в год. Арсеньева изредка, обыкновенно на летние месяцы, ездила в Тарханы, проживая большую часть года в Петербурге, где часто и подолгу гостил у нее Лермонтов, охотно покидавший Царское Село для светских удовольствий столицы.
Я теперь езжу в свет... чтобы познакомиться с собою, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в высшем обществе.
Пишет он в Москву через месяц после производства в офицеры.
Его несказанно радовало, что он вырвался из стен училища на свободу. Но что начать с собой, куда кинуться, куда направить избыток молодых сил? Он чувствовал себя узником, которому растворили тесную темницу. Ему хотелось на свободу, порасправить могучие крылья, полной грудью дохнуть свежим воздухом; словом, хотелось жить, действовать, ощущать; он хотел изведать все, „со всею полнотою“. Его манил блеск светского общества и удалые товарищеские пирушки да выходки и тревожили прежние стремления и идеалы, не заглохшие в течение „двух ужасных лет“, только что пережитых им. Любопытно, как, при самом вступлении в новую жизнь, Лермонтов ясно ощущал двойственность своих стремлений, разлад души, с одной стороны, дорожившей воспоминаниями о времени своих чистейших увлечений и порывов, о годах, когда он думал посвятить всего себя служению искусству и поэзии, а с другой — увлекала его та светская порча, которая уже успела коснуться его. Об этой порче Лермонтов писал, как мы видели, и прежде к другу своему М.А. Лопухиной. Теперь он пишет ей же:
Милый друг! Чтобы ни случилось, я иначе никогда называть вас не буду, а то это значило бы порвать последние нити, связывающие меня с прошедшим; этого бы не хотел я ни за что на свете, потому что будущность моя, блистательная на вид, — пошлая и пустая. Надо вам признаться, что с каждым днем я все более и более убеждаюсь, что из меня ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и не прекрасными опытами на пути жизни... потому что мне не достает либо случая, либо решимости... Мне говорят: случай когда-нибудь выйдет; время и опыт дадут и решимость... а кто поручится, что, когда все это сбудется, я сберегу в себе хоть частицу этой пламенной молодой души, которою Бог чрезвычайно некстати одарил меня?..
Ощущаемый поэтом разлад и двойственность выразились и в жизни его. С одной стороны, он сжигал свои силы в шумном кругу гвардейской молодежи или рассаривал душевные свои качества по паркетам гостиных, с другой — завязывал литературные знакомства, приглядывался к людям, читал и мыслил. Сосредоточенный и замкнутый в себе, Лермонтов нелегко высказывал лучшие свои думы и оставался молчаливым в обществе писателей, только в исключительных случаях и больше в беседе с глазу на глаз изредка позволял заглянуть в святую святых своей души. Но тогда он поражал и мощью и глубиной мысли, которую никак не могли подозревать в молодом гусарском офицерике-кутиле. Мы можем убедиться в этом из рассказов о Лермонтове Белинского, Краевского, Панаева и др.
Общество того времени жило бедными интересами. Мы видели, как в воспитательных заведениях запрещалось всякое чтение книг литературного содержания, и молодежь направляла свои силы на различные шалости, иногда стоившие ей довольно дорого, доводя до временного заключения, солдатской шинели и ссылки. Жизнь сковывалась разными стеснительными правилами и регламентацией, и противодействие им считалось среди юношей подвигом. На этот протест тратились силы, в нем выступало лихое молодечество, плод праздности умственной жизни.
Подвиги эти встречали в обществе отзыв, о них говорили, герои прославлялись. Наказание их вызывало к ним симпатию даже тех лиц, которым приходилось карать их. Кара выходила какая-то отеческая, семейно-патриархального оттенка. Типы эти описаны много раз. Одним из таких людей был забияка и дуэлист Каверин, воспетый Пушкиным. Такой тип выставлен и Л. Толстым в лице Долохова („Война и мир“), В конце 30-х и начале 40-х годов много рассказывали о проделках Константина Булгакова, офицера Преображенского, а затем Московского полка, товарища Лермонтова по „школе“. Смелые, подчас не лишенные остроумия, проказы Булгакова доставили ему особую милость великого князя Михаила Павловича, отечески его журившего и сажавшего под арест и на гауптвахту.
С этим „Костькой Булгаковым“ (как его называли товарищи) Лермонтов „хороводился“ особенно охотно, когда у него являлась фантазия учинить шалость, выпить или покутить на славу. Двоюродный брат и товарищ Лермонтова, Николай Дмитриевич Юрьев (лейб-драгун), рассказывал, как однажды, когда Лермонтов дольше обыкновенного зажился в Царском, соскучившаяся по нем бабушка послала за ним в Царское Юрьева с тем, чтобы он непременно притащил внука в Петербург. Лихая тройка стояла у крыльца, и Юрьев собирался спуститься к ней из квартиры, когда со смехом и звоном оружия ввалились предводительствуемые Булгаковым лейб-егерь Павел Александрович Гвоздев и лейб-улан Меринский. Бабушка угостила новоприбывших завтраком и развеселившаяся молодежь порешила всем вместе ехать за „Мишелем“ в Царское. Явилась еще наемная тройка с пошевнями (дело было на масляной), и молодежь понеслась к заставе, где дежурным на гауптвахтах стоял знакомый Преображенский офицер Н. Недавний однокашник пропустил товарищей, потребовав при этом, чтобы на возвратном пути Костька Булгаков был в настоящем своем виде, то есть сильно хмельной, что называлось „быть на шестом взводе“. Друзья обещали, что все с прибавкой двух-трех гусар прибудут в самом развеселом, настоящем масляничном состоянии духа. В Царском, в квартире Лермонтова, застали они пир горой, и, разумеется, пирующей компанией были приняты с распростертыми объятиями. Пирушка кончилась непременной жженкой, причем обнаженные гусарские сабли своими невинными клинками служили подставками для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой, эффекта ради, были вынесены все свечи. Булгаков сыпал французскими стихами собственной фабрикации, в которых воспевались красные гусары, голубые уланы, белые кавалергарды, гренадеры и егеря со всяким невообразимым вздором в связи с Марсом, Аполлоном, Парисом, Людовиком XV, божественной Наталией, сладостной Лизой, Георгеттой и т. п. Лермонтов изводил карандаши, которые Юрьев едва успевал чинить ему, и сооружал застольные песни самого нескромного содержания. Песни пелись при громчайшем хохоте и звоне стаканов. Гусарщина шла в полном разгаре. Шум встревожил даже коменданта города.