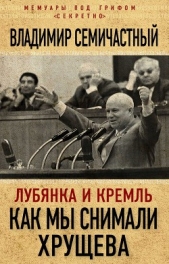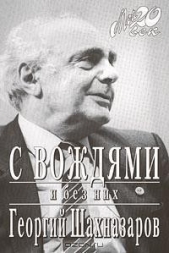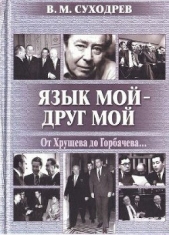Жизнь в трех эпохах

Жизнь в трех эпохах читать книгу онлайн
Эта книга — не мемуары, а зарисовка жизни нашего общества на протяжении 70 лет. Автор, начинавший свою трудовую деятельность в пятнадцатилетием возрасте грузчиком, впоследствии получил международную известность как профессор-историк, преподавал в университетах США и Англии. Со страниц его книги встают образы довоенной Москвы с ее атмосферой страха и энтузиазма, страшные детали войны, картины изменения жизни, быта, психологии наших людей. Много внимания уделено Сталину и сталинизму, Хрущеву, Горбачеву, Ельцину. Автор размышляет о русском национальном характере, взаимоотношениях наций и пытается дать ответ на вопросы: была ли неизбежна гибель Советской власти и почему после ее падения все пошло не так, как люди надеялись…
На эти вопросы отвечает человек неординарной судьбы, живой, наблюдательный, всегда имевший свое «особое мнение» и свой особенный ракурс.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Коснувшись темы курортов, вспоминаю еще один смешной случай в конце 70-х годов. Я читал лекции в Крыму, и местное начальство в знак благодарности устроило меня на две недели в ялтинскую гостиницу «Интурист», где отдыхали только иностранцы или же те из наших, которые попадали туда «по блату» (например, маникюрши жен больших начальников). Пляж был разделен на две неравные части: огромная полоса только для иностранцев, куда пускали только по пропускам, и маленький кусок для своих, в то время как соотношение отдыхающих было обратным. Хуже всего было то, что только на полупустынном «иностранном» пляже располагались киоски с напитками и едой. Пройти с нашей полосы на иностранную было нельзя, охрана не пропускала. Я придумал вот что: взяв в рот металлический рубль, которого хватало как раз на стакан минералки и бутерброд, я уплывал со своего пляжа в море, разворачивался и плыл на иностранный пляж; на берегу охрана не стояла. И однажды, выплыв на берег, слышу, как меня кто-то окликает. Это был мой хороший знакомый, профессор из Лейпцига. Когда я ему объяснил, в чем дело, он с женой долго смеялся и обещал рассказать всем в Лейпциге, как он видел советского профессора вылезающим из моря с рублем во рту.
Говоря о лекторской работе, замечу: труднее всего было то, что, владея массой информации (я ведь всегда слушал «голоса» по приемнику, их глушили на русском, но я слушал Би-би-си на английском), удержаться от того, чтобы поделиться этой информацией со слушателями лекций, выбрать то, что было бы для них новым, но так, чтобы не сказать лишнего, не «погореть». Помню, при мне на одном республиканском семинаре лекторов известный лектор ЦК, отвечая на вопрос, почему ушел в отставку английский премьер Вильсон, сказал: «Да он давно говорил, что как только ему стукнет пятьдесят лет, он уйдет; считает, что после пятидесяти человек уже не может полноценно управлять государством». Сказал — и обомлел: аудитория зашумела, люди хихикают — ведь все знают, сколько лет нашим-то руководителям. Когда он шел с трибуны, на него жалко было смотреть. Не знаю, прислали ли на него «телегу».
Опять возвращаюсь к вопросам, задаваемым после лекции. Неоднократно приходилось читать записки с таким вопросом: «Скажите, какой национальности Сахаров и Солженицын?» (Дело в том, что неофициально распускался слух, что настоящие фамилии этих людей — Цукерман и Солженицер.) Я всегда отвечал: «Жаль огорчать товарища, задавшего этот вопрос, но оба они — чисто русские».
По мере возможности я всегда старался — и чем дальше, тем больше, — давать слушателям более или менее правдивую, объективную картину событий. Это облегчалось тем, что по большей части я читал не общие лекции о международном положении, а специальные — по Ближнему Востоку. Здесь было больше возможностей говорить правду, уходя от той чудовищной фальсификации, которая была неизбежна при чтении общих лекций. Конечно, все равно приходилось кривить душой. Я читал лекции как ради заработка, так и для того, чтобы поездить по стране. Это было неотъемлемой частью моей жизни, той жизни, которую я добровольно для себя выбрал в тот момент, когда решил поступить учиться в институт политического профиля.
Прага, 1968
Голос секретаря парткома нашего института Петрова звучал в телефонной трубке напряженно, взволнованно. «Ты, конечно, уже слышал о Чехословакии? Так вот, по указанию райкома сегодня в два часа в институте митинг, все члены парткома будут выступать, так что подготовься». — «Дима, я не приду в институт». — «Как не придешь?» — «А вот так. Не хочу быть на митинге». Пауза, потом: «Ну, старик, это даже странно. Думаешь, мне и другим приятно выступать на такую тему?» — «Дима, в тот момент, когда ты согласился стать секретарем парткома, ты согласился хлебать дерьмо полной ложкой. Вот и хлебай. А я не приду, если спросят — говори что хочешь».
Это, конечно, 21 августа 1968 года. Занятно, что именно в этот день я должен был прилететь в Прагу для участия в конференции по проблемам европейской безопасности, и у меня до сих пор сохраняется номер пражской газеты «Руде право», которую я тогда выписывал, за 20 августа, и на первой полосе — сообщение об открывающейся на следующий день конференции, перечисляются ее иностранные участники, в том числе я. Но 19-го мне сообщили, что конференция откладывается, и вот — 21-го в Прагу вместо меня прибывают другие люди, на другом транспорте.
К этому времени я уже регулярно посещаю социалистические страны по линии Академии наук, свободно читаю на восточноевропейских языках (кроме венгерского), а по-польски вполне прилично говорю. Я видел такие чудесные города, как Прага, Будапешт, Краков, бывал в прелестных маленьких немецких городках. Близка мне по-настоящему только Польша, я много читаю по-польски, у меня в Варшаве друзья. Польская кровь? Но во мне ведь есть и немецкая, а тяги ко всему немецкому я как-то не испытываю; правда, люблю петь немецкие песни, как и польские. Меня очаровывает «польский дух», что-то благородное и трагическое, что ощущается во всей истории Польши (недаром Энгельс назвал ее «бессмертным рыцарем Европы»), в польских стихах, песнях, кинофильмах. А вот ныне живущее поколение поляков никаких эмоций во мне не вызывает; я вижу, что как бы в знак протеста против собственного героического прошлого поляки, похоже, отвергли свой традиционный образ романтиков и мучеников, ударились в сугубый прагматизм, в бизнес, торгуют по всей Восточной Европе.
Впоследствии эпопея «Солидарности» покажет, что это не совсем так, что «польский дух» жив, но в 60-х и 70-х годах я этого еще заметить не мог. Заодно скажу, что и по отношению к моей собственной стране, России, я испытываю сходное чувство: люблю ее литературу, музыку, песни, русскую историю, природу, чувствую в себе какие-то черты нашей родимой ментальности, но особых симпатий к окружающему меня населению, к «простому человеку» (для меня он остается Homo Soveticus, советским человеком) — у меня нет. Вспоминаю в связи с этим, что де Голль писал о своей любви к «некоей идее Франции» (une certaine idee de la France) в отличие от современного поколения французов.
В Чехословакии, где я побывал в первый раз в 1961 году, сразу заметил неприязнь к русским; быстро усвоил, что если я хочу, чтобы меня хорошо обслужили, лучше говорить по-немецки, а не по-русски. Любопытно, что чехи немцев не любят, но уважают; раньше они вообще были онемеченным народом и мало отличались от немцев и австрийцев и по своей культуре, и по религии, и в бытовом отношении. Именно поэтому, чтобы сохранить свою самобытность, чехи больше всех других славян культивировали чистоту своего языка, в котором сейчас гораздо больше славянских корней, чем в польском или русском. Противоположность менталитетов, национальных характеров поляков и чехов сразу заметна. Мне рассказывали, что однажды в Кракове состоялся семинар, организованный академиями наук Польши и Чехословакии, на тему об исторических корнях взаимной неприязни поляков и чехов. Напротив, поляки любят венгров, считают их духовно близкими себе, несмотря на отсутствие общей границы и непреодолимый языковый барьер; у них есть даже пословица: «Поляк з венгжем два братанки, як до шабли, так до шклянки». (Замените «ш» на «с», и все ясно.)
Когда началась Пражская весна, я как-то сразу почувствовал необычность всего, что должно произойти, и… подписался на «Руде право» (вовремя успел, через две недели подписку на эту газету, рупор «социализма с человеческим лицом», уже не принимали). Знание польского языка помогло мне быстро справиться с чешским, и на протяжении нескольких месяцев я буквально упивался информацией о том, какие неслыханные вещи творятся в Чехословакии при Дубчеке. И вот — вторжение. Конец всему. Наш народ поддерживает ввод войск. Водитель, возивший меня на Кубани за месяц до вторжения, говорил: «Чехи все — предатели, всех расстрелять надо». Мои коллеги — лекторы, присутствовавшие на инструктаже в райкоме партии 21 сентября, рассказывали, что им говорили, будто ввод войск Варшавского пакта предвосхитил вступление в Чехословакию армии ФРГ всего на два часа — и многие этому верили!