Сын башмачника. Андерсен
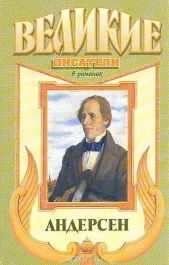
Сын башмачника. Андерсен читать книгу онлайн
Г. X. Андерсен — самый известный в мире сказочник. О его трудной, но такой прекрасной жизни рассказывает в своей книге замечательный московский писатель, поэт, сказочник, эссеист, автор двадцати шести книг, лауреат многочисленных премий Александр Трофимов.
«Сын башмачника» — единственный в России роман о жизни Андерсена, которому 2 апреля 2005 года исполнится 200 лет со дня рождения.
Книга об Андерсене удостоена нескольких литературных премий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Посмотри, сколько нищих, сколько людей живёт ещё хуже нас с тобой, — не раз говаривала Мария. — У нас есть крыша над головой, Бог дал нам здорового ребёнка, который один может стать целым счастьем, чем же ты недоволен, Ганс Христиан! Не гневи Бога, не ропщи на него, не задумывайся о его делах, а благодари за них, что бы Он ни делал — всё правильно. Когда ты пойдёшь со мной в церковь! — и это звучало скорее требованием, чем вопросом.
Наученный опытом, муж не спорил, а только громче стучал молотком, пытаясь отгородиться привычной мелодией от её назойливых слов. Они жужжали над ним как мухи, от которых нельзя было отмахнуться.
— Ты весь вспотел, выйди на улицу, — вдруг странным голосом, точно впервые поняла значение этого пота, обратилась к нему жена...
— Сейчас, — он отложил молоток и с радостью вышел из дома. Всё понимающий ветер погладил его лоб, упростил мысли. Он стал думать о лесе, о ребёнке и отдыхал на этих привычных мыслях, так в военном походе отдыхают на долгожданном привале.
Ему было стыдно себе признаться в этом, но он был сейчас счастлив в одиночестве, словно перешёл уже грань жизни и смотрел на всё оттуда... Было всё ясно и понятно в этой земной жизни и уже не хотелось ни с чем и ни с кем спорить. Только лес и ребёнок да жена чего-то стоили среди остальных людей, собак и деревьев. Он шёл к реке, где было спокойнее, чем на улице, подошёл к самому берегу и всё шёл и шёл вперёд, пока не почувствовал волну у самого горла и не ощутил самого большого счастья в этой жизни...
Но он оставался на берегу, словно его второе тело отделилось от него и вошло в реку... Или река так настойчиво приглашала к себе. Реченька...
Ганс Христиан Андерсен-старший глубоко осознавал себя неудачником после похода. Жизнь словно закрыла перед ним все двери. Его глодала тоска. Он скрывал это, но чем больше скрываешь тоску, тем глубже она залезает в тебя. Он никогда не станет офицером! Он никогда не спасёт свою семью от нищеты! Он никогда, никогда не станет окончательно счастлив. Он до сих пор не верил ни единой капелькой пота, что деньги, которые семья выручила от богатого крестьянина за то, что Ганс Христиан Андерсен добровольно ушёл за него в армию, растаяли от инфляции как снег, как лужа под солнцем, растаяли как жизнь... Эти деньги обесценились, как и его собственная жизнь, с самого первого момента получения денег — он редко сознавался в этом себе, но сейчас — от кого он должен был таить свои мысли? — от реки? И он беседовал сам с собой, слова уменьшали тоску, но не приносили облегчения его мытарствующей душе. Забыться, забыться, обнять сына, почувствовать, что он, сын — его кусочек, его единственное письмо в будущее. Мы все чего-нибудь стоим в жизни только в том случае, если пишем письма в будущее. В будущее, а не в небеса. Теперь он не просто будет вырезать игрушки для сына, он будет творить их, всего себя он вложит в деревянные существа, он с такой любовью будет создавать их, что они заговорят человеческим языком! То-то будет сыну радость, то-то будет жене удивление. И он не будет больше засыпать в лесу, а каждое мгновение леса будет им наслаждаться, почувствует каждый листик, всякую паутинку, любую птицу осознает как родственницу, сходит в гости к каждой ромашке и позвонит во все васильки. О, он будет, будет жить долго...
И снова ливень пота стёр записи мечты... Все мы рисунки на школьной доске бытия. Да здравствуют педагоги, которые мало стирают!
Кожа неудачника сильно стягивала кожу ребёнка на теле отца; что ж, многие имеют не одну кожу, но чувствуют себя вполне привольно, и никакая новая кожа взамен старой, которая, в отличие от змеиной, никуда не пропадает, не мешает им жить...
Пиршества леса — единственное, что у него оставалось. Жизни чуткие касанья он чувствовал так глубоко, что жить ему становилось всё труднее не день ото дня, а миг от мига... Если бы он был здоров! Но земля тянула к себе и требовала индивидуального разговора, его монологи её уже не устраивали.
Он засыпал от усталости и обиды на жизнь, и его плоть буравили нетерпеливые сны, приходившие в гости без приглашения. Они рассаживались за скрипливым столом его ночных часов и заводили свои шарманки, но ни в одном из них так и не приходила к нему возможность остаться один на один со счастьем.
Странно устроила природа — даже во сне человек не может остаться один на один со своим счастьем, все счастья, которые могли бы проявиться во сне — переряжаются несчастьями, угрюмее которых не сыскать. Но и в дневных тягостных разочарованных часах своих он находил, умудрялся находить подобие радости: так вид засушенного цветка нередко обманывает нас издалека своим цветущим видом, а, между тем, это цветущий вид смерти. Кто сказал, что смерть старуха костлявая с косой? — Нет! Нет! И нет! — она молодая женщина с косой, пышущая здоровьем. И всё-таки — смерть не продолжение жизни — она её начало... И в конце сгорбленных дней своих башмачник Ганс Христиан Андерсен научился понимать это, но больше всего в мире боялся поделиться этим знанием с женой или сыном и даже готов был молить Бога, чтобы его сын — маленький Ганс Христиан Андерсен никогда не сделал по наследству этого отягощающего любое мановение радости открытие... Когда отец сидел на солнышке, понимая, что умрёт, и как бы стремясь унести под землю как можно больше солнечного тепла, он ласкал сына в своих мыслях, даже когда его не было рядом, он хотел, чтобы остатки его жизни перетекли в сына, а он побыстрее избавился и от кожи ребёнка, и от кожи взрослого. Только красота окружающего мира и была его последней отрадой из того, что он видел и замечал вокруг. Жизни людей по какому-то невероятному закону так далеки друг от друга, так несправедливо несхожи, даже у самых близких людей, что опыт предыдущих поколений всегда растрачивается впустую, растранжиривается раз и навсегда, и копилка человечества скудеет с каждым вновь умершим человеком, но так мало людей осознают это, даже среди поэтов; вместо того, чтобы обогащаться каждой прожитой жизнью в человечестве, люди уходят почти без следа, и поэтому каждый умерший лежит не в земле, а на совести человечества; и кто кому нужен на этой земле и почему мы не умираем, когда умирают наши родители? Гнездо эгоизма, свиваемое самим фактом рождения, выпускает хищных птиц, которые сбивают птенцов сострадания, и мы живём под смертельной, безжалостной, свинцовой защитой этих птиц, вездесущих как молнии и всесильных как воздух. Что они нам? Но мы все — гнезда смерти наших родителей — гнезда смерти самых лучших людей. Но, может быть, неведомая сила знает, что бессмертие на земле ещё страшнее смерти и нет ничего гуманнее того, что мы называем гибелью человека... Вот поэтому-то Бог и устроил так, что даже во сне мы не можем напитаться нашими мечтами и всеми теми желаниями, в которых не сознаемся и сами себе, и как знать, как знать, может быть, потусторонняя жизнь, рай — есть не что иное, как повторение счастливых минут этой жизни — если же так, то как недолог наш рай, где с самыми чистыми сокровенными мечтами нашими мы, в лучшем случае, пробудем только несколько часов, а самые счастливые — дни.
Очень хорошо, плодотворно думал он во время болезни, она как бы обнажала его мысли, так сосна обнажает корни в поисках новых соков, когда старые, привычные, испиты, и нечем кормить иголки, и нет возможности гнать соки по стволу к отягощённым кривизной ветвям... Кто мы — корни или стволы? Ветви или соки?
Когда он вдруг нарушал обет молчания, который наложила болезнь в его минуты здорового сознания, он иногда пытался сломать запруду слов и высказать накопившееся в душе, но он прекрасно понимал, как далеки его попытки высказать накопленные неподкупные сконцентрированные мысли радикулитными словами.
— Чему ты учишь ребёнка? — вставала любящая мать и жена на защиту привычных правил, подкреплённых церковными догмами и зрелыми силами её здоровой как у соседей души. — Господь делает всегда всё правильно, и ребёнку не нужны твои непонятные мысли. Лучше бы молчал, берег здоровье. Она искренне любила мужа, она была счастлива сыном сверх всякой меры, но боялась любого непривычного движения души и слова. Всякий религиозный человек уважает догмы и старые истины, он справедливо борется за своё право жить за крепостной стеной этих догм, это происходит по инерции предыдущих поколений, поэтому всякое новое движение мысли в утробе века зачастую приканчивается самыми замечательными людьми, готовыми отдать жизни за свои догмы. Как правило, люди — это дети догм и пасынки истин, потому что всякая истина, становясь догмой, переходит в свою противоположность; свежесть, перерождаемость становится затхлостью, а мир превращается в антимир...


























