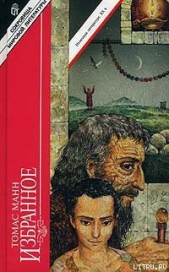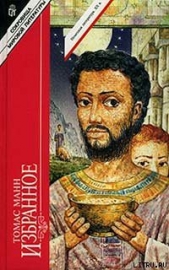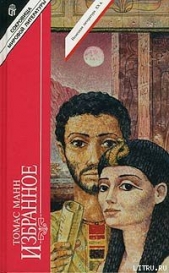Путь на Волшебную гору
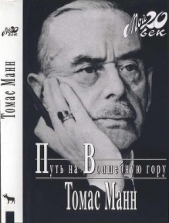
Путь на Волшебную гору читать книгу онлайн
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне хочется упомянуть здесь о весьма удачном театральном опыте, выпавшем на мою долю в Вене вскоре после окончания войны: постановке «Фьоренцы», навсегда памятной мне, так как все обстоятельства сложились настолько для нее благоприятно, что я впервые не испытал тех с театральностью связанных угрызений совести, какие обычно мучают автора при таких начинаниях. Фридрих Розенталь, в то время — главный режиссер Народного театра, любитель неподатливого материала, по инициативе некоего общества любителей театра осуществил эту постановку, притом с избранным ансамблем бывшего Придворного и Народного театров, следовательно, распределив все роли таким образом, что наискромнейшие из них и те были поручены искусным мастерам слова, блестящим исполнителям. Спектакль шел в «Академическом» театре, где сцена просторна, а уютный зрительный зал был заполнен духовно чуткой публикой весьма пестрого национального состава. Я сидел в ложе, и меня изумляло мое собственное увлечение. Историческая ситуация тех дней поразительнейшим образом соответствовала духу этого раннего произведения, недостатки и двойственность которого я всегда хорошо, слишком даже хорошо сознавал, и помогла создать впечатление, по — настоящему захватившее и самого автора. Гибель эпохи эстетизма и наступление времени социальных бедствий, победа религиозного начала над культурным, — восприимчивость к таким явлениям тогда у всех была обострена, и этот вечер Для меня незабываем, так как внушил мне мысли о природе некоей, правда, неагитационной и лишь сейсмографически предупреждающей чувствительности, в которой я склонен был видеть иную, более сокрытую и опосредствованную форму политической мудрости.
Тем временем границы как нейтральных, так и враждебных в течение войны стран открылись; сквозь клубы дыма, стлавшиеся над пожарищем, обрисовывались очертания иной, войною как бы уменьшенной, сбившейся в кучку, ставшей более тесной Европы. Начались лекционные поездки за границу — сначала в Голландию, Швейцарию и Данию, в столице которой я был гостем немецкого посла, писателя — философа Герхардта фон Муциуса. Весной 1923 года состоялась поездка в Испанию. Морем, минуя Францию, как тогда еще рекомендовалось делать, мы отправились из Генуи в Барселону, оттуда в Мадрид, Севилью и Гренаду, после чего пересекли полуостров в обратном направлении, посетили расположенный на севере Саптандер, а затем через Бискайский залив и Плимут вернулись в Германию — в Гамбург. Навсегда запечатлелся в моей памяти день Вознесения в Севилье, с молебствием в соборе, чудесной органной музыкой и предвечерней праздничной корридой. Но в общей сложности андалусский юг произвел на меня не такое сильное впечатление, как классическигишпанские области — Кастилия, Толедо, Араихуэс, гранитный монастырь — крепость Филиппа и поездка, после Эскуриала, в Сеговию, по ту сторону снеговых вершин Гвадаррамы. Тогда мы, возвращаясь домой, едва коснулись побережья Англии. В следующем году я, в качестве почетного гостя совсем недавно основанного Пен — клуба, побывал в Лондоне; Голсуорси сердечно приветствовал меня в застольной речи, я стал предметом внушительнейших изъявлений готовности к полному примирению в сфере культуры. Лишь два года спустя настало время для поездки в Париж, инициатива которой исходила от французского отделения фонда Карнеги и которую я день за днем рассказал в книжке «Парижский отчет». Затем 1927 год дал поездку в Варшаву, где, принимая немецкого писателя, общество проявило незабываемое, великодушно призывающее к дружбе гостеприимство. Я говорю о варшавском обществе в целом, ибо не только объединенные в Пенклубе писатели в течение недели, если не дольше, непрестанно выказывали мне величайшее наисердечнейшее внимание; к ним присоединились и аристократия, и власти предержащие, почему у меня сложилось впечатление широчайшей распространенности в Польше искренне уважительного и признательного отношения к немецкой культуре, в данном человечески — вразумительном случае ревностно использованного, дабы устоять против политических трудностей и антиномий.
Итак, осенью 1924 года, после бесчисленных перерывов и помех, вышел в свет роман, не семь, а в общей сложности двенадцать лет подряд державший меня в плену своих чар, и будь он даже принят куда менее благосклонно — и то успех неимоверно превзошел бы мои ожидания. Я привык завершенную работу выпускать из своих рук, пожимая плечами в знак покорности судьбе, без малейшей надежды на возможность ее распространения в мире. Та прелесть, та притягательная сила, которую она некогда имела для меня, выпестовавшего ее, давным — давно уже изжита, завершение было делом творчески — этической честности, по сути своей — упрямства, да и вообще упрямство, так мне кажется, в сильной, слишком сильной степени определяет мою долголетнюю упорную одержимость этой работой, она слишком ясно представляется мне неким проблематичным увлечением сугубо личного свойства, чтобы я дерзал хоть сколько‑нибудь рассчитывать на широкий интерес к вещественным следам моего странного утреннего времяпрепровождения. Я, можно сказать, «падаю с облаков», когда, как уже не раз в ходе моей жизни, этот интерес все же проявляется почти что бурно, и в случае с «Волшебной горой» это приятное падение было особенно стремительно и нежданно. Можно ли было предположить, что материально стесненная, угнетаемая заботами публика будет склонна прослеживать прихотливые извивы этого развертывающегося на тысяче двухстах страницах переплетения мыслей? «Тот ковер необозримый… двести тысяч строк стихов» — вот слова «Фирдоуси» Гейне, которые я особенно охотно повторял про себя во время этой работы, да еще Гётево «Не знаешь ты конца, и тем велик». Неужели, спрашивал я себя, в нынешних условиях найдется больше двух — трех тысяч человек, согласных выложить шестнадцать, а то и двадцать марок за такое странное развлечение, не имеющее почти ничего общего с чтением романов в сколько‑нибудь обычном смысле этого слова? Бесспорно было одно — еще каких‑нибудь десять лет назад эти два тома не могли ни быть написаны, ни найти читателей. Для этого понадобились переживания, общие автору и его народу, переживания, которые он своевременно должен был донести в себе до художественной зрелости, дабы, как это однажды уже произошло, выступить со своим рискованным произведением в благоприятный момент. Проблемы «Волшебной горы» по самой природе своей не могли волновать массы, но для совокупности образованных людей они были жгуче злободневны, а всеобщие бедствия подвергли восприимчивость широкой публики именно той алхимической «активизации», в которой заключалась суть приключений юного Ганса Касторпа. Да, несомненно, немецкий читатель узнал себя в простодушном, но «лукавом» герое романа; он был способен и согласен следовать за ним. Я не обманываю себя насчет природы этого странного успеха. Он был менее литературного свойства, нежели успех романа, написанного мною в молодости, более обусловлен временем, но из‑за этого ничуть не менее чужд пошлости и поверхностности, так как зиждился на сочувствии страданию. Этот успех обозначился быстрее, чем тот, ранний; уже самые первые газетные сообщения всполошили публику, существенная преграда — высокая цена — была сметена бурным натиском, и потребовалось только четыре года, чтобы книга вышла сотым изданием. Почти одновременно с основным немецким вышло издание на венгерском языке, за ним последовали голландское, английское, шведское, и, наперекор всем законам и обычаям парижского рынка, теперь уже решено выпустить несокращенное двухтомное французское издание, причем надежнейшим ручательством его успеха для меня является взволнованное и волнующее письмо Андре Жида о том, как он в течение нескольких недель был целиком занят этой книгой. Я верю в истинность прекрасного изречения Эмиля Фаге: «L’6tranger, cette posterite contemporaine» [86].
В неоднократно упоминавшейся мною примиренно — радостной новелле, в 1925 году последовавшей за романом, я дал некое не лишенное снисходительности восхваление «беспорядка», ибо я люблю порядок как согласную с природой и глубоко закономерную непроизвольность, как действующее в тиши устроение и насыщенную соотношениями ясность творческого плана жизни. Вот почему я нахожу удовольствие в том, как в моем плане оба самые значимые мои рассказа соотносятся с большими романами и эти романы — друг с другом. «Тонио Крёгер» соответствует «Будденброкам», «Смерть в Венеции» — «Волшебной горе», а последняя, в свою очередь, является точно таким же художественным коррелятом романа двадцатипятилетнего авто — ра, как история гибели в Венеции — новеллы о юноше — северянине. «Волшебная гора» не соизволила дать себя закончить раньше, чем мне исполнилось пятьдесят лет; но к тому именно дню моей жизни, с памятью о котором для меня навсегда связано столько благодарных, охватывающих всю мою жизнь дум о трогательном участии в нем немецкой общественности, книга все же была доведена до благополучного конца.