Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
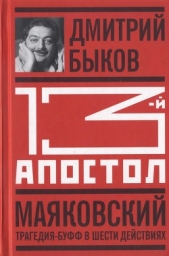
Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И начнется поздняя, зрелая, прекрасная любовь. Даже заведется какой-то уют. Потому что кто же способен так понять одного неврастеника, как другой, переживший все увлечения и бури, поживший, потертый неврастеник. Она будет лепить, он — писать, и это странно совпадет с тридцатыми, с кончившейся утопией безбытности. Они даже начнут обзаводиться вещами.
Тогда-то их и возьмут, обоих одновременно. Именно тогда, когда все уже стало хорошо.
Интересный мог быть роман, первая часть в духе «Гадюки», а вторая… вторая какая-то совсем загробная, тогда так не писали. Но истории такие были, не могли не быть. И какая могла быть сцена, когда она, тридцатисемилетняя женщина без быта, чьи руки знали только оружие и резец, — варит ему первый в жизни компот, а он вбивает в картонные стены общего жилья первые в жизни гвозди.
На каждом повороте жизнь Маяковского могла превратиться в роман, и каждый раз вместо романа выходил какой-то другой жанр, жанр отказа от романа, если угодно. Трагедия-буфф.
ВОЙНА
На поезде из Кишинева в Николаев Маяковский написал первую часть будущего «Тринадцатого апостола» — вчерне, «в небритом виде», как выражался он сам.
28 января приехали в Киев. Это было первое их выступление, прошедшее с конной полицией (поэтические чтения шестидесятых на площади Маяковского регулярно собирали конную милицию, напоминая тем самым о его киевском триумфе). Успех был большой, скандальный, 31 января вечер решено было повторить. В это же самое время в Москву приехал Маринетти. Московские футуристы встретили его уважительно, и только Хлебников написал гневный текст, где возмущался преклонением перед иностранцем, и даже поссорился с Николаем Кульбиным чуть не до дуэли — все за то же преклонение. Он написал и распространял в Петербурге, куда Маринетти отправился из Москвы, следующую листовку: «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы.
Люди, не желающие хомута на шее, будут, как и в позорные дни Верхарна и Макса Линдера, спокойными созерцателями темного подвига.
Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.
Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!
Кружева холопства на баранах гостеприимства».
Маяковскому, по воспоминаниям Каменского, поведение Маринетти в Москве тоже не понравилось. Он прочел в киевской «Вечерней газете» отчет: отец итальянского футуризма назвал Кремль «нелепой штукой», спросил, на какой площади теперь рубят головы, российских футуристов назвал дикарями, Толстого — ханжой, Достоевского — истериком, а Горького — фотографом. На сообщение, что московские футуристы могут встретить его скандалом, Маринетти самодовольно ответил, что профессионально боксирует.
И вот чем, спрашивается, недовольны были все эти люди? Они точно так же вели себя на публичных выступлениях, бросали Толстого и Пушкина с парохода современности, откровенно хамили публике — а когда сами столкнулись с таким же отношением великого итальянца, надулись. Ладно Хлебников, он на выступлениях всегда был тих и почти не читал в больших залах; но эти-то все? Жизнь Маринетти складывалась по той же схеме, что и жизнь большинства русских футуристов: он восторженно приветствовал Муссолини, называл себя «беспартийным фашистом» (из партии вышел в знак протеста против заигрывания Муссолини с клерикалами), воспевал возрождение Италии. В Россию он вернулся в 1942 году в составе Итальянского экспедиционного корпуса — ему было 66 лет. Под Сталинградом он тяжело заболел, был эвакуирован на родину и в 1944 году, за полгода до падения Муссолини, умер от сердечного приступа.
Писатель вряд ли мог противостоять соблазнам XX века, вот в чем штука; даже лучшие попадались — и, собственно, чем лучше они были, тем готовнее попадались. А те, кто не попадался, гордые одиночки, ни к кому не примыкавшие, — остались в полузабвении либо, что называется, сделались достоянием доцента. Четырнадцатый год всех развел. Именно тогда, словно предчувствуя неизбежность позорного выбора, начали гибнуть, кончать с собой без внешнего повода, именно футуристы — предвестники конца, обладавшие болезненно острым чутьем на все апокалиптическое. Иван Игнатьев в ночь после свадьбы перерезал себе горло бритвой (есть версия, что из боязни секса — был будто бы скрытый гомосексуалист). Божидар (Богдан Гордеев) повесился в лесу. Итальянские футуристы дружно впали в шовинизм. Российские, впрочем, — тоже.
Футуристам понравилось разъезжать по городам, благожелательно хамить публике и зарабатывать деньги. В конце февраля они отправились продолжать турне. 20 февраля — Казань, далее Пенза, Самара и Саратов.
Что удивительно — газетные отзывы становятся все благожелательнее. Репортеры отмечают противоречие между эпатажным видом Маяковского и его идеально ровной, книжной речью. Доклады оказываются на удивление внятными, разборы стихов — а он постоянно цитирует кого-то из футуристов и тут же объясняет, как это сделано и что имеется в виду, — доступны даже обывателю. Да и собственные его стихи, публикуемые в футуристических альманахах («Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц», «Первый журнал российских футуристов»), признаются наиболее осмысленными и понятными из всего, что там печатается. Шкловский иногда под горячую руку говорил, что Маяковский — тот же Надсон, только лесенкой; и в общем, приходится признать, что Маяковский с легкостью овладел бы любой стихотворной техникой, просто молодость его пришлась на футуристические времена. Пришлась бы на символистские — был бы символистом. В поздних вещах уже вовсе ничего футуристического нет.
Доклад о футуризме, который Маяковский читал во время первого турне, в общих чертах был неизменен: электричество из черных кошек умели добывать и египтяне, но только в наше время электричество служит человеку. И потому изобретателями электричества мы называем не египтян, а Эдисона. Сегодня фонарь раздевает темную улицу, как любовник. Поэзия электрических дуг, авиации, автомобилей — вот что такое футуризм. Смысл слов приелся, слово должно стать независимым от смысла. Новые чувства, новые скорости можно выразить только новыми словами. И так далее. Никакого эпатажа, и как будто уже не было нужды предупреждать «Вам придется работать головами, а не кулаками» или «Свистеть можете после доклада».
21 февраля Маяковского и Бурлюка исключили из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, поскольку еще в декабре ученикам были запрещены публичные выступления, а футуристы не послушались. Маяковский, и до того не слишком частый гость в училище, обрадовался: «Выгнали из нужника на свежий воздух!» Заканчивать турне он предложил в Тифлисе: «Это единственный город, где никто не будет скандалить. Там любят поэтов и умеют встречать гостей».
23 марта они приехали в Тифлис и в Гранд-отеле на Головинском (ныне проспект Руставели) заняли, как пишет Каменский, «громадный белый номер с пальмой». Маяковский, обнимая пальму, повторял:
— Я дома, я грузин!
На улицах он говорил по-грузински, его восторженно приветствовали, на выступление в Казенном оперном театре стояла очередь. Знакомиться в гостиницу пришел шестнадцатилетний местный поэт Сергей Спасский, впоследствии написавший — тоже к десятилетию смерти Маяковского, как и Шкловский, — любопытную мемуарную книгу «Маяковский и его спутники». В ней он вспоминал, что в Тифлисе Маяковский читал «Тиану» Северянина — и звучала она трагически, как все у него. Правду сказать, если выбросить оттуда явную пошлость («Кудесней всех женщин — ликер из банана», вот это и есть типичный Северянин), — трагическая интонация там действительно есть:





















