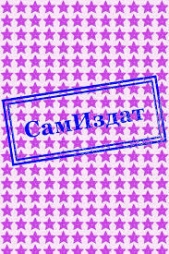Марина Цветаева. Жизнь и творчество
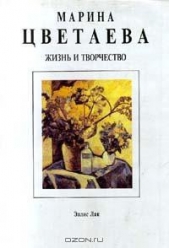
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Легенду о Разине Цветаева трактует как любовную коллизию. Не удаль "бешеного атамана", не силу его богатырскую подчеркивает она, а его чувства. Правда, Цветаева не заставила Разина броситься в Волгу вслед за персияночкой, что совсем бы изменило смысл русской народной песни. Однако, создавая своего Разина, Цветаева во многом отталкивалась от немецкой легенды Фридриха де ла Мотт Фуке о дунайской "чародейке" Ундине, о чем и написала несколько позже:
"Персияночка Разина и Ундина. Обеих любили, обеих бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouque и у Жуковского).
И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, — только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии: "за башмачком", а Ундина со всей преданностью Любящей и Германии-за поцелуем".
К весне относятся записи Цветаевой об Ахматовой; в них звучит уже не романтическое мифотворчество, а проницательное суждение:
""Всё о себе, всё о любви". Да, о себе, о любви — и еще — изумительно-о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, "подарке Божьем"… и так без конца. И есть у нее одно 8-стишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов. Ахматова пишет о себе — о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего — через описание пера на шляпе — передаст потомкам свой век… О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов — и ничего не прибавишь… Какой трудный и соблазнительный подарок поэтам — Анна Ахматова!"
Неисповедимы порой пути поэта; необъяснимы "приливы" и "отливы" его вдохновения; непредсказуемы удачи и поражения. С мая по сентябрь семнадцатого года Цветаева написала немало, однако поэтические озарения не всегда посещали ее. Особенно в тех (немногих, правда) случаях, когда она пыталась осмыслить происходящие в стране события.
Маем датированы два стихотворения, противоречащие друг другу по смыслу; за обоими ощущается некая душевная безоружность, отсутствие твердой точки зрения — столь несвойственные Цветаевой. В первом стихотворении — "И кто-то, упав на карту…" она возвеличивает Керенского — нового "диктатора" с "вселенским лбом": "Повеяло Бонапартом В моей стране". В другом прочитывается даже запальчивый вызов происходящему:
Хаос, крушение привычного мира, ощущение того, что он куда-то проваливается, — таково отношение Цветаевой к событиям. И еще — жалость к жертвам, кто бы они ни были. С материнским страданием оплакивает она гибель юношей (детей, сыновей): "Сабли взмах — И вздохнули трубы тяжко. — Провожать Легкий прах… Три фуражки. Трубный звон. Рвется сердце…"
Речь идет о стихотворении "Юнкерам, убитым в Нижнем". Стихотворение риторично, оно не согрето жаром личного сопереживания. Толчком к его созданию, должно быть, послужили вести от мужа, о чем Цветаева сообщала Елизавете Эфрон 27 июня:
"Сережа жив и здоров, я получила от него телегра<мму> и письмо. Ранено свыше 30-ти юнкеров (двое сброшены с моста, — раскроенные головы, рваные раны, били прикладами, ногами, камнями), трое при смерти, один из них, только что вернувшийся с каторги социалист.
Причина: недовольство тем, что юнкера в с<оциал>-д<емократической> демонстр<ации> 18-го июня участия почти не принимали, — и тем, что они шли с лозунгом: "Честь России дороже жизни". — Точного дня приезда Сережи я не знаю, тогда Вас извещу.
Сейчас я одна с кормилицей и тремя детьми (третий — Валерий — 6-мес<ячный> сын кормилицы). Маша ушла. Кормилица очень мила, и мы справляемся.
О своем будущем ничего не знаю. Аля и Ирина здоровы, Ирина понемножку поправляется, хотя еще очень худа.
Пишу стихи, вижусь с Никодимом, Таней [30], Л<идией> А<лександровной> [31], Бердяевым. И — в общении — все хороши…
МЭ".
Вот так, одинаково "эпически", рассказывает Цветаева и о трагедии, и о здоровье младшей дочери, и об уходе няньки… И именно это "бытовое" письмо говорит о многом.
Несмотря на то, что талант Цветаевой уже набирал силу трагического поэта, по-видимому, она не стремилась затрагивать то, что — до поры — не коснулось ее лично. Сумевшая заговорить достаточно эмоционально о сложных и близких ей человеческих переживаниях, она становилась почти безучастной и немой, как только речь заходила о том, что происходило, так сказать, вовне. И это "внешнее" (прибавим еще ненавидимый ею и всё утяжелявшийся быт) побуждало Цветаеву к инстинктивному уходу в некий условный, порой — бутафорский, театрализованный мир, что началось еще в шестнадцатом году. Так вместо живых чувств проникли в ее стихотворные тетради ходульные страсти Дон-Жуана; с февраля по июнь семнадцатого года возвращалась Цветаева к стихам об этом роковом любовнике. Тема рока, судьбы вообще влечет ее — но лишь как заявка, а не проникновение; стихи отвлеченны, холодны:
Появляются одежды, в которые поэт рядит своих героев: "Божественно, детски-плоско Короткое, в сборку, платье" Кармен; атрибуты романтических любовников: "Мой первый браслет, Мой белый корсет, Твой малиновый жилет, Наш клетчатый плед?!" ("Boheme"), а также прочие аксессуары Романтики, почерпнутой из книг или театра, но не пропущенной сквозь собственное сердце:
Однако там, где побудителем стихотворения оказывается сама Жизнь, оно обретает душу. Так, 19 мая 1917 года Цветаевой довелось наблюдать цыганское гадание, — под этим впечатлением родилось три стихотворения; каждое из них, в сущности, не что иное, как речь, монолог гадалки, в котором запечатлены интуиция, сметливость, веками выработанные у представителей этого удивительного племени: