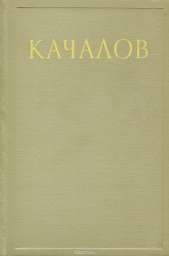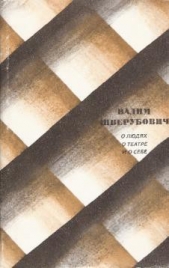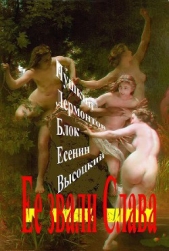Качалов

Качалов читать книгу онлайн
Выдающийся русский артист Василий Иванович Качалов вошел в историю театра как замечательный актер-мыслитель, утверждавший в своем творчестве высокие общественные идеалы. Он был носителем реалистического, передового искусства великой жизненной правды, которое сделали своим знаменем К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко и созданный ими Московский Художественный театр.
Эта книга рассказывает о жизненном пути В. И. Качалова, формировании его как актера, творческих поисках, работе над созданием незабываемых образов. Книга показывает путь Московского Художественного театра, от которого неотделима жизнь Качалова-художника, о замечательных современниках и друзьях актера — Чехове, Горьком, Баумане, Сулержицком, Есенине и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Американские зрители увидели качаловского Штокмана. В нем имелись некоторые черты образа, созданного Станиславским, однако его внутренний, духовный мир был совсем иным. Герой ибсеновской пьесы как будто родился вновь и начал жить по-другому.
Как? «По-качаловски»…
Одинокий, наивный борец с общественным злом курортный врач Штокман говорил те же слова, но зазвучали они с интонациями другими, чем у Станиславского.
Как и в прошлом, когда Качалов дублировал Станиславского — Вершинина в «Трех сестрах», так и теперь возник новый, отличный образ. Однако напрасно доискиваться, какой из двух Штокманов оказался вернее, ближе к замыслу драматурга. И тот и другой создались не случайно, не по прихоти их творцов. Пьеса Ибсена — общий первоисточник. А то, что видение и трактовка обоих артистов были различны, лишь обогащало текст пьесы.
Обличительная речь Штокмана — Качалова захватывала благородным гражданским пафосом.
— Все наши духовные жизненные источники отравлены, вся наша общественная жизнь зиждется на зараженной ложью почве! — восклицает борец за правду. — Истина и свобода имеют в обществе массу врагов, оно даже состоит сплошь из врагов. Прежде всего к их числу принадлежат местные заправилы, но я не хочу тратить даром слова, говоря о кучке хилых умников, плетущихся позади. Эти ветхие остатки отживающего мировоззрения сами сведут себя на нет.
Кто ранее видел Станиславского в роли доктора Штокмана, не узнавал ибсеновского героя, говорившего те же слова. Казалось, их произносил другой человек: не такой нелепый, наивный, нескладный. Теперь выступал герой мужественный, умудренный жизненным опытом.
Родился новый человеческий образ. Творцом его был Качалов.
Естественно, возникает вопрос: почему Качалов трактовал героя ибсеновской пьесы несколько иначе, чем думал первоначально?
Пребывание за океаном оставило глубокий след в его душе. В мировоззрении его также произошли большие сдвиги. В нем еще сильнее пробудилось чувство гражданственности, стремление к свободе, негодование против ее душителей. Все это воплотилось в созданном им портрете доктора Штокмана.
Гастролеры трудились день и ночь. Частые переезды из конца в конец большой страны позволили повидать многое, и впечатлений было хоть отбавляй.
Острым глазом художника Качалов наблюдал чужую жизнь, размышлял над ней, делал меткие обобщения. Некоторые свои впечатления он облек в темпераментную эпистолярную форму. Вот отрывок из одного такого письма, отмеченный несомненным литературным талантом автора и убедительно говорящий о его идейных взглядах:
«Смешной Нью-Йорк, смешные американцы. Много нелепого и неожиданного. Питерская зима, сырая, влажная. Как будто пахнет ветром от Невы, вдруг завалит снегом, белые сугробы, и через два-три часа серая грязь, но нет былых питерских дворников, и утопаешь по колена в грязи. Ни пройти, ни проехать — такая грязь, такие лужи и ухабы. Кучи мусора в центре города.
Вообще контрасты, невозможные в Европе. Не спустился, а слетел с 56-го этажа на экспресс-лифте, вышел на улицу и попал носом в снежный или мусорный сугроб. Поднимался на лифте с какими-то двумя девчонками, и солидные джентльмены стояли в лифте с обнаженными перед этими девчонками головами, сняв свои котелки. Наивное, театральное джентльменство! И в то же время процветает всякий мордобой, и кулак здесь в большом почете. Кулаком регулируются всякие недоразумения и осложнения.
Вчера прочел в газете, как какой-то «джентльмен» избил палкой какую-то «леди», приняв ее за проститутку, которая якобы подмигнула его сыну, и на суде был оправдан. Провинциализм, наивность, неблагоустройство, добродушие, сила молодости народа — вдруг отчаянный скандал в театре оттого, что негр захотел сесть в партер в первых рядах. Хамство, даже зверство по отношению к неграм. Очень много пьют, несмотря на запрещение, и много и хорошо работают. К концу каждого спектакля рабочие все пьяны, и в то же время антракты доведены до минимума благодаря их талантливости и чисто русской, по определению Димы, смекалки.
А какие драки, какой мордобой! Какая жуть была в театре на днях днем, во время расстановки декораций, когда театральные рабочие начали драться в четыре пары — на сцене, а потом, сняв пиджаки, выкатились на улицу и на глазах публики и полисменов до потери сознания избивали друг друга. Одних втащили раскровавленных в театр, и они в бутафорской лежали до вечера, а другие, тоже окровавленные, подвязали чистым платком скулы и продолжали работать.
А какое убожество, какая грязь и теснота в еврейском квартале! Говорят, в китайском еще хуже — я там еще не был. А бандитизм более зверский, чем в Париже.
Вечером все небо Нью-Йорка — сплошной фейерверк реклам, перешибающих друг друга. Все кажется безвкусным, убогим, скучным, никакой духовности и красоты».
Спору нет, длительное путешествие по американскому континенту принесло пользу. Оно расширило круг знаний и обогатило интересными впечатлениями Качалова-художника. Однако пребывание за рубежом в течение почти двух лет имело и «обратную сторону медали».
«Доволен ли я жизнью? — писал в то время Василий Иванович одному из московских друзей. — Все чего-то не хватает и что-то ужасно лишнее. И, честное слово, не для того, чтобы сказать тебе приятное, в Москве — верю и чувствую — было бы в тысячу раз лучше».
Делая это признание, Качалов не покривил душой, но, вероятно, чтобы не огорчать друга, сказал только полуправду. На самом деле он тогда переживал тяжелый внутренний кризис.
Все более тянуло Василия Ивановича на родину, в дорогую его сердцу Москву. Тяга домой была особенно сильной оттого, что он чувствовал, как необходимо Художественному театру скорее вернуться на родную почву. Правдиво, откровенно делился Василий Иванович с Немировичем-Данченко своей болью;
— Разлюбил я наш теперешний театр в поездке. Много он теряет при «экспорте», хотя в то же время напоминает банку с консервами. Когда на сцене раскрывается эта банка, это еще не так плохо и для нетребовательного вкуса даже приемлемо: аромата и свежести нет, но для широкого употребления еще может сойти. А вот когда мы сами, промеж себя заглянем в эту банку, то уже делается неловко и грустно и мы отворачиваемся от банки и друг от друга… Хочется зацепиться за что-то свое, живое, выскочить из круга теней.
Мечта видеть «свое, живое» осуществилась только в августе 1924 года, когда Художественный театр вернулся в Москву.
Радостный миг! Очевидец выразительно описывает переживания Василия Ивановича в те дни:
«Качалов был страшно счастлив, что вернулся, весь дышал весной. С обычной беспечностью своей, такой милой и открытой, он сообщил, что как-де хорошо, что во дворе Художественного театра из дворницкой ему переделали квартиру. В этой дворницкой, занесенной снегом и напоминающей мещанский домишко на окраине уездного города, с нелепой сонеткой, с крылечком о трех ступенях, с обившейся клеенкой на рассохшихся дверях, с низким входом, так что надо нагнуться, переступая порог, Качалов, из дальних странствий возвратясь, возвеличенный европейской и американской славой и пропечатанный в самых разноязычных газетах, снова обрел себя, свою московскую сущность, свой родной чернозем, свой корень».
Триумфальное странствование за границей казалось тогда Качалову далеким сном. Сном, который не хотелось повторять.