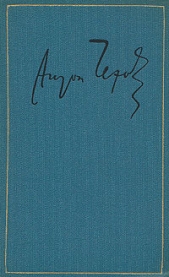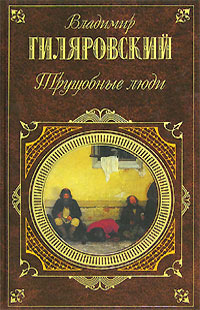Волшебные дни (статьи, очерки, интервью)
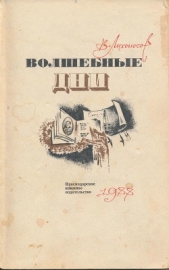
Волшебные дни (статьи, очерки, интервью) читать книгу онлайн
В книгу Виктора Лихоносова «Волшебные дни» вошли очерки, статьи о литературе и истории, воспоминания о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Казакове, Ю. Селезневе, интервью, а также страницы творческого дневника писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведет меня внук от старой Крепостной площади вверх, к Колхозному рынку, и расхваливает город. Он знает его и любит. Рассказывает мне о Маяковском, который бывал в Краснодаре в двадцатые годы, о большом друге Тарсса Шевченко — атамане Якове Кухаренко, о писателе Ф. Гладкове. Потом о В. Ставском, Е. Ковтюхе, об Орджоникидзе и чекисте Лакобе. Не забыл внук и хана Батыя, стоявшего со своей ордой на Карасунском озере. Вспомнил и запорожского казака Чепигу — основателя города.
Рядом с внуком идет и его девушка — тонкая, симпатичная спортсменка. Чудаки, деда просвещают. Нашли кому рассказывать. Им невдомек, что я с Епифаном Ковтюхом плыл по бурной Кубани мимо берегов, занятых врангелевцами, в станицу Гривенскую, где стоял штаб Улагая. И там рядом с Д. Фурмановым шел в штыковую атаку на юнкерское училище. Это меня он вывел в своей повести «Красный десант» в образе бойца. А когда в 1929 году кулаки — бандиты станицы Васюринской проломили мне голову, то у моей постели ночь напролет дежурил В. Ставский.
— А вот это наша гордость — новый театр оперетты, — прерывает мои мысли внук. — Сегодня пойдем на премьеру. Когда построят драмтеатр, я прилечу за тобой в Сухуми. Ты же любишь летать.
Я только вздохнул. Слишком поздно я поднялся в воздух, оторвался от земли. Слишком поздно понял, что я из соколиного племени.
Я смотрю на кинотеатр, на памятник у кинотеатра «Аврора», на простор бульвара и чувствую, что мне уже не жаль окраинного пустыря, где мы с Кочубеем шли в атаку на конницу Богаевского, не жаль и снесенного кургана, с которого когда‑то был сражен орудийным залпом генерал Корнилов.
Что‑то еще говорит мой внук, рассказывает его девушка, а улица Красная гудит, шумит, переливается радугой…»
Последний его роман я поддержать не мог. Меня попросили написать закрытое мнение. Я написал его не только для редакции, но и для начальства.
«Жаль несостоявшегося дарования, — написал я, — Роман можно печатать и не печатать — как повезет.
Почему не развился талант человека? Талант народный, с кубанским колоритом, со знанием тех подробностей истинно казачьей жизни, которые он смог преподнести нам сочно, без ерничества, без уступок догматизму. Нуждались ли мы вообще в талантах? В правде? Нет.
Атмосфера одергивания влияла на пишущих, на сам характер работы и ответственность за нее. Многие кубанские исторические сочинения и исследования просмолены нарочитой приблизительностью. Так легче печататься, защищать диссертации. Когда‑то такому творчеству нельзя было устроить заслон. Сейчас можно и нужно. Мы выросли и смотрим назад с высоты побед и ошибок. Нынче царствуют писатели без колорита, без истинно народной основы. У К. Катаенко все это было, но разрушительная сила дурного примера, ежедневное эхо вседозволенности склоняли его ляпать книжки в расчете на давно одобренную тупость, и каждый раз поражение засчитывалось как триумф: «Не хуже, чем у других». А теперь уже поздно исправляться…»
Он прожил ровно столько, сколько жил очень известный на Кубани казак — говорун В. С. Вареник, — семьдесят семь лет!
— Пиши мемуары, — говорил и говорил я ему, — ты столько видел…
Незаменимых людей, как известно, нет. Но в личном нашем мире, в узком кругу, где, в сущности, смыкается все в тесном союзе душ и характеров, с потерей человека обрывается какая‑то ниточка, сшивавшая нас с той жизнью, которую никто не осветит. Мы не можем представить, где бы мы этого человека повстречали, от чего бы отвлек он нас визитом, на какую мысль натолкнул поступком, что разворошил в нас и т. п. Так вот и с К. Катаенко. Нету его, и мне неточную страницу в романе исправить не с кем. Он был такой и сякой, но один.
Последние встречи с ним были короткими, почти все на улице Красной. Все их записал — как чувствовал, что последние слова человека на земле будут для воспоминаний значительнее прочих.
— Как увижу тебя, так подумаю, что Назарий Давыденко ушел на службу в конвой в 11–м году. За ним Гаврило Москаленко повез сундук в Петербург. В 16–м избрали атаманом Емельяна Реву. Про него и помощника Быляцкого — в следующий раз, когда на Красной красивых девчат не будет, они меня отвлекают. Иду до Ивана Вараввы, самого лучшего поэта Кубани. До скорой встречи…
Потом опять так же, на бегу, осенью:
— Неплохо бы вам всем в Союзе писателей знать, что в моей станице Челбасской было около двадцати тысяч населения. Четыре казачьих школы, одна женская гимназия, две иногородних средних, три начальных, приходская и несколько частных. Ходил я в школу в военной казачьей форме, черкески украшены газырями. А сейчас я в сенаторском костюме перед тобой, иду до кума Нимченко песни спивать, а поговорим в следующий раз…
В сухом ноябре держался за пуговицу на моем пиджаке и говорил:
— У нас был бык весом шестьдесят пудов, а вол — пятьдесят. Если хочешь понять край кубанский, цифры тоже надо помнить. У Палия дед служил на персидской границе. У него был сад беспородный, одичалый. Захотел он вырубить тот сад и насадить культурные сорта. Мать стала возражать: «Зачем? Пусть растет. Вот под дубом я с твоим батькой отдыхала по праздникам. Постелим бурку и лежим. А у тополя так хорошо лист шумит. Не трогай. Пускай шумит лист». Выстроил Палий дом кирпичный, а перед ним старая хата, как нищенка. Мать: «Нет, Марко, я в эту хату жить не пойду. Она и хатой не пахнет». Стою, а день убывает. Доскажу в следующий раз, когда твоя жинка нам хорошего чаю заварит… Иду до Ивана Вараввы…
И последний раз мы постояли так же мало:
— Тебе, друже, нужны старые завзятые казаки? Хочешь черпать от них «старовыну»? Так я тебе назову! Як скушаешь краюху паляныцы, та крашено яичко, та семь штук мандарин, то станет тебе так добре, что сразу же иди к запорожским характерам. Первый — это учитель Чечетка в станице Старокорсунской. Он ходит в папахе, говорит на украинском языке, выписывает украинские книжки, и ученики его называют «Чабан». Второй — Гаврыло Лымарь, родом из станицы Мингрельской, рассказчик каких мало. И поет. Когда соберутся из станицы родичи, то хор лучше кубанского ансамбля. И еще бывший садовод колхоза из станицы Стародеревянковской Сердюк, тип запорожца. Ну и Нимченко, бандурист из станицы Пашковской. Поезжай до них, а я пойду — шампунь для жинки и стиральный порошок приказано купить, так я тебя оставляю, разбалакаемся на весь голос в субботу, обдумаем, как мне про разведчиков в эту войну написать… Встретимся еще…
Но мы больше не встретились.
Много я еще ходил потом по казачьим хатам в Пашковской, полюбил казаков, а все равно чувствовал даже в удовольствии, что одного казака нету…
7 октября 1986 года, п. Пересыпь
СВЕТЛЫЙ ДОМ ПОЭТА
Николай Краснов приехал на Кубань пятнадцать лет назад, и уже при первом знакомстве с ним бросилось в глаза, что он человек не южного склада; по рождению и по говору — с берегов Волги, из Ульяновска, бывшего Симбирска, «прекраснейшего, — как недавно написал в своей автобиографии, — из всех увиденных мной городов. Крутой волжский берег с деревянными лестницами почти в тысячу ступенек, величавая река — матушка и синие дали, тихая, с травянистыми кромками Свияга, красивые пригородные рощи, называемые колками, мелеющая Симбирка, курмышки, спуски и сплошные сады в подгорье до самого плеса…».
Знакомые чувства нежной любви к своим углам!
«Но сначала, — пишет Н. Краснов, — был Дом у цветущего луга, деревня Репьевка в пригороде, родина отца, связавшего судьбу с детной вдовой — горожанкой».
Деревня и затем фронтовые дороги определили все пристрастия и темы будущего писателя.
Он увлекся поэзией рано: первое стихотворение свое опубликовал в газете «Будь готов!» в двенадцать лет, чуть позже печатался в «Пионерской правде». И наверное, скорее бы пополнил он себя высокими знаниями, без которых немыслимо служение литературе, ровнее была бы его дорога к храму искусства, если бы не война. Могло быть и другое: насладившись детским плетением словес, охладел бы он к музе и, как это часто случается, вдруг почувствовал, что писать‑то особенно не о чем. Ничего нет хорошего в войне, но она стала бесценным опытом, который нарочно не добудешь. Война преподнесла жестокие уроки, сблизила в тяжелые исторические годы с народной душой и после потерь товарищей и друзей утроила в поэте совсем уже необоримую тягу к красоте жизни, человечности, к миру без грохота и дыма. Там окрепла в нем завещанная отцами и дедами народность, и ею, коренной чертой писателя, он дорожил потом в наставниках, братьях — поэтах, в колхознице из далекого села.