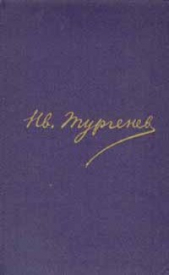Замогильные записки
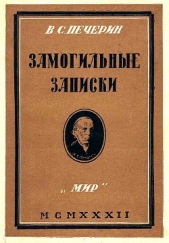
Замогильные записки читать книгу онлайн
Печерин Владимир Сергеевич — русский иезуит, эллинист; родился в 1808 г. Окончил курс в Петербургском университете, был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. В 1836 г. занял кафедру греческой словесности в Московском университете.
Тогдашнее положение вещей угнетало Печерина; он решился уехать из России. Для этого нужны были деньги. Печерин стал давать уроки, свел свои издержки на самое необходимое, избегал товарищеских собраний и, наконец, уехал, уведомив попечителя письменно, что не воротится в Россию. За границей Печерин некоторое время был домашним учителем, а потом сделался монахом иезуитского ордена, и очень ревностным.
В издание вошли мемуары Владимира Сергеевича Печерина «Замогильные записки», написанные в 60–70-е гг. XIX столетия. .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
G‘était comme un joli de fleurs ef de verdure, où le moine pouvais se promener à pied sec les jours humides et rafraîchir ses gazons d‘une nappe d’eau courante dans les jours brûIants, respirer au bord d’une belle terrase le parfums des orangers, dont la cime touffue apportait sous ses yeux un dôme élatant de fleurs et de fruits, et contempler dans un repos absolu le paysage à la fois austère et gracieux, mélancolique et grandiose; enfin cultiver pour la volupté de ses regards des fleurs rares et précieuses, cueillir pour étancher la soif les fruits les plus savoureux, écouter les bruits sublimes de la mer, contempler la splendeur des nuits d’été sous le plus beau ciel, et adorer l’Eternel dans le plus beau temple que jamais il ait ouvert à l’homme dans le sein de la nature. Telles me parurent au premier abord les ineffables jouissances du chartreux, telles je me les promis à moi-même en m’installant dans une de ceux cellules, qui semblaient avoir été disposées pour satisfaire les magnifiques caprices d'imagination ou de rêverie d’une phalange choisi de poêtes et «d’artistes». (Un hiver à Majorque. G. Sand) [210].
Mon âme se dilatait dans son orgeuilleux enthousiasme;. les idées les plus riantes et les plus poëtiques se pressaient dans mon cerveau en même temps qu’une confience audocieuse gonflait та poitrine. Tous les objets, sur lesquels errait та vue, semblaient. se parer d’une beauté inconnue. Les lames d’or du tabernacle étincelaient, étincelaient comme si une Iumière céleste était descendue sur le Saint des Saintes. Les vitraux coloriès, embrasès par le soleil, se reflétant sur le pavé, fermaient entre chaque colonne une large mosaïque de diamants et de pierres précieuses. Les anges de marbre semblaient amollis par la chaleur, incliner leurs fronts el, comme de beaux oiseanx, vouloir cacher sous leurs ailes leurs têtes charmantes, fatiguées du poids des corniches. Les battements égaux et mysteriéux de l’horloge ressemblaient aux fortes vibrations d’une poitrine embrasée d'amour, et la flamme blanche et mate de la lampequi brûle incessement devant l’autel, luttant avec l’edat du jour était pour moi l’embleme d’une intelligence enchaînée sur la terre, qui aspire sans cesse à se fondre dans l'éternel foyer de l'intelligence divine. (Spiridion. G. Sand) [211]
Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображением, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал — долго ли, коротко ли не знаю — и думал крепкую думу и наконец порешил — итти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse [212], что близ Гренобля, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главною целью была — поэтическая пустыня!
Но утро вечера мудренее. Приготовляясь к моему путешествию, я вдруг спросил самого себя: «Но как же я отправлюсь? Ведь у меня денег не много, а от Льежа до Гренобля расстояние — не шутка! Надо итти пешком — стало быть надо опять начать бродяжную жизнь, испытать прежние лишения, а может быть и попасть в руки жандармов… Нет, покорно благодарю!» — Это окатило меня ушатом холодной воды и, наученный опытом, я решился остаться и искать поэтической пустыни где-нибудь поближе.
Пятая и последняя сцена. В 1861 я оставил редемптористов. Они мне дали 1000 франков на дорогу. «Ну, теперь слава богу, я вольный казак!» сказал я самому себе: «дай пойду поглядеть на мечту моей юности!» Я ехал не останавливаясь до самого Парижа; в Париже пробыл день или два, а оттуда прямо в Лион и к Grande Chartreuse.
Природа осталась тою же: необыкновенно дикая и величественная. Но все прочее изменилось. В старые годы к Grande Chartreuse надобно было итти по берегу ревущего потока по узкой тропинке, где можно было только итти пешком или ехать верхом, — а теперь там проложили славную широкую, царскую дорогу, где экипажи разъезжают. Вместо набожных богомольцев, идущих на поклонение святыне, я увидел целый обоз каких-то телег нагруженных четвероугольными ящиками.
— «Что это такое?» спросил я.
— «А вот я вам скажу, что это значит», — отвечала мне дама, сидевшая со мною в дилижансе — «святые отцы картезианцы нашли в горах какие-то целебные травы. и из них сначала было делали какой-то эликсир, а теперь они пустились на спекуляцию и из этого эликсира приготовляют отличный ликер, продающийся во всех трактирах и кофейнях под именем La Chartreuse [213]. Эта промышленность доставляет им ежегодно миллион чистого дохода (Pauvres Chartreux! [214]). Вот этот обоз весь нагружен бутылками Шартреза, отправляемыми на продажу. Какой-то винопродавец вздумал было продавать поддельную Шартрезу, но монахи притянули его к суду, выиграли дело, и заставили его выставлять на своих бутылках надпись: Imitation de la Chartreuse [215].
«Очевидно, — сказал я, — что почтенные картезианцы умеют соединять хитроумие змия с невинностью голубицы».
Картезианская обитель не представляет ничего замечательного в архитектурном отношении. Эта нестройная и безобразная куча зданий, похожих на большой господский дом с овинами и амбарами. Я нашел там толпу людей, пришедших из чистого любопытства и без малейшего уважения к святыне. Везде был шум и гам. О монашеской трапезе и помину не было, а вместо нее было несколько ресторанов с разными ценами, смотря по карману посетителей. Уставши от дороги, я тотчас сел за стол. Мне прежде всего поднесли рюмку пресловутой шартрезы. Вокруг стола ходил толстый монах и забавлял гостей своими прибаутками и шутками, а иногда, от времени до времени, он подымал глаза к небу и со вздохом произносил: Nous pauvres chartreux! [216]. Нигде, кроме Франции, я не видал такого прозрачно-наглого лицемерия: у немцев оно по крайней мере прикрыто и стушевано врожденным этому народу простодушием. Осмотревши окрестности, где природа действительно великолепна в своей суровой дикости, где все прекрасно, кроме человека, — я поспешил возвратиться в Париж. Я удалился из Картезианской обители, как Лафонтенова лисица, поджавши хвост и jurant quoiqu'un peu tard, qu‘on ne m‘y prendrait plus [217].
Конец пятой и последней сцены. Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Некоторые шикают.
Льеж
(1838–1840)
J‘ai fait mon pacte définitif avec le diable, et Ie diable — c‘est la pensée. [218]
Я пробыл всего два года в Льеже, но в этих двух годах стеснились целые столетия мысли. Я пришел в Льеж с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье и пр. Я рожден быть бродягою. Для того, чтобы мыслить, мне непременно надо быть в движении. Я уверен, что мысль и есть яе что иное, как электричество или жар или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение (смотри Тиндаля). Я в полном смысле был перипатетическим т. е. прогуливающимся философом.
Мои занятия у капитана не продолжались долее 2-го или много 3-го часа п. п., а после этого я был вольный казак — иди куда хочешь. Вот я так и бродил в долгий день, куда глаза глядят: вдоль прекрасной набережной, quai de la Sauveieze или за городом между работами новой железной дороги, по лугам и пашням, по горам и по долинам, по рощам и лесам. Я бродил, бродил, а между тем мысль работала, работала: я устраивал в голове своей общину (commune), фаланстер. — «Какое это блаженство!» — думал я: «тогда можно будет странствовать по целому свету: куда ни придешь, везде свои, везде готов и стол и дом, везде идут на встречу наши братья и — милые женщины»… — Да! конечно, ведь communauté de femmes [219] входило в учение Бернацкого.