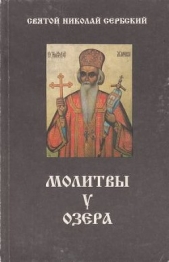Мусоргский
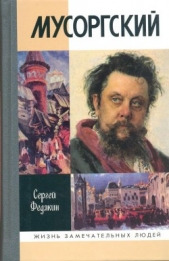
Мусоргский читать книгу онлайн
Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начало «Классика» — тихое, «благостное» (и сквозь эту приглушенную интонацию — скрыто-самодовольное) заставляет вспомнить европейскую оперу времен Моцарта. Строчка «я прекрасен» пропевается с «фиоритуркой», с той вокальной «завитушкой», которую «родные уши» балакиревцев должны были поймать с усмешкой. «Я в меру страстен», — явное тематическое оживление с «благопристойным» моцартизмом. И самохарактеристика: «Я — чистый классик», — выпевается в первый раз на «скромном» усилении голоса, во второй раз — на его замирании, с характернейшим для классической арии распевом «кла-ас-си-и-и-ик».
Сатира в музыке — тот жанр, на который решатся не многие. Она помнит о первоисточнике, она заставляет знать, что Александр Сергеевич Фаминцын учился музыке в Германии, учился старательно, и правила, им вынесенные, — это было то, что Мусоргский мог назвать «неметчиной».
Вторая «часть» этого крошечного памфлета — полна тем звуковым напором, который должен «классика» ужаснуть. Он и ужасается, и голос то и дело (на ключевых словах — «я злейший враг новейших ухищрений, заклятый враг всех нововведений») скачет на огромный интервал вниз. В аккомпанементе возникает отголосок темы «моря» из картины Римского-Корсакова «Садко». Потом вступают бравурные «маршеобразные» ритмы. Кульминация «музыкального безобразия» — скачок на целую нону (нечто невообразимое для «классика»!) вниз: «В них гроб искусства вижу я». «Падение» звука приходится как раз на самое точное слово «гроб».
Финал памфлета Мусоргского — возвращение к «тихому» началу, уже с нагнетанием буквы «я», которая превращается в самохарактеристику «классика»: «Но я, я — прост, но я, я — ясен…»
Декабрьская творческая волна не остыла и в январе, когда явилось еще одно произведение — «Сиротка». И опять — монолог ребенка. Но с «Озорником» роднило только это. «Сиротка» — почти «песенка». Жалостная до холода в спине.
Стихотворный размер ломается, когда тоска не вмещается в заданный ритм. Слова, написанные композитором, не дотягивают до стонущих звуков Некрасова. Но музыка усиливает звук — и преображает его.
Некрасова Мусоргский, кажется, не любил. Высоко ценив Герцена, он и не мог к поэту относиться иначе. Герцен сомневался в искренности некрасовского народолюбия, да и человеком считал весьма «нехорошим». И все же «заунывная» поэзия автора «Железной дороги», стихотворения «Еду ли ночью…», «Коробейников», его безутешность вряд ли могла миновать душу композитора.
Особый отзвук, — с жалостью, с жутью, — который «гудел» в стихах Некрасова, коснулся и Мусоргского. Эту мучительную «ноту» он схватил музыкой, и она многократно усилила сочиненные им самим слова:
И снова от маленького сочинения повеяло будущей музыкальной драмой: царь Борис выйдет из собора, и его встретит многоголосный стон: «Хлеба!.. Хлеба голодным!..»
Спустя многие годы Александр Порфирьевич Бородин припомнит, как расхворалась его жена, припомнит и Мусоргского с рукописью «Сиротки», и его сочувственную надпись: «…как маленькое утешение больной женщине».
Зима 1867/68 года. Не только Мусоргский ощутил ее бодрящий холод и живое дыхание. Не только Берлиоз сквозь страдания улавливал последнее свое вдохновение. Медленно истаивала и жизнь того, чье присутствие в этом мире станет особенно важным для новой русской музыки, неповторимый лик которой только-только стал проступать в сочинениях балакиревцев. Но Александр Сергеевич Даргомыжский, в отличие от усталого Гектора Берлиоза, не хотел с полной обреченностью ожидать приближение смертного часа.
Всё было против него. Давний ревматизм отозвался тяжелейшей болезнью сердца. Материальные дела — в тревожном состоянии. Изводила тяжба вокруг Дубровы, имения, столь им любимого (в письме к знакомым — вопль: «…процесс, в который я завлечен обманом, принимает гнусный оборот…»). Пытался поправить дела «предпринимательством»… — безуспешно. Ко всему прибавилось и еще одно крайне неприятное «дело».
Федор Стелловский. В истории русской культуры — имя зловещее. Как мало о нем известно сейчас! И как известен был он в свое время! Потомкам Стелловский всего более запомнился как «черный человек» Достоевского с неожиданным «заказом», который более походил на желание похоронить писателя заживо. «Стелловский такая шельма, что подденет, где и не предполагаешь» [64], — эту фразу Достоевского поневоле вспомнишь, узнав, что этот издатель «наложил свою лапу» не только на автора «Преступления и наказания». Скупить векселя, дабы потом шантажировать, исчезнуть из города в решающий день, предоставить марку издательства, чтобы после постараться урвать и часть авторских прав… Печатал не только литературные произведения, был и нотоиздателем. Выпускал произведения М. И. Глинки, А. Н. Верстовского, А. Н. Серова. То и дело вытягивая из неимущих владельцев рукописи, сутяжничая, стремясь «урвать» где угодно и как угодно, пытаясь присвоить права на то, что ему не принадлежит, этот «черный человек» русских литераторов и композиторов запомнился и тем, кто знал А. Ф. Писемского, и тем, кто был знаком с Всеволодом Крестовским. Неприятности доставил и сестре Глинки, Людмиле Ивановне Шестаковой, правопреемнице брата, заявив претензии на часть наследия композитора. Бросит свою мрачную тень и на последний год жизни Александра Даргомыжского.
Композитор связался с предприимчивым издателем лет десять назад, чтобы выпустить в свет свою «Русалку». В договоре стояла сумма в 1100 рублей, хотя 700 из них композитор «приплатил», чтобы увидеть свое детище напечатанным.
С осени 1865-го возобновилась «Русалка», затем «Эсмеральда» и «Торжество Вакха». Новый успех старых произведений, взлетевший авторитет — все это откликнулось в 1867-м: Даргомыжского избрали председателем Музыкального Общества. Композитор был воодушевлен, но эти перемены возрадовали и дельца: он захотел по старому издательскому договору получать теперь и поспектакльную плату, заявив о своих «правах» дирекции императорских театров.
Зловещая фигура издателя преследовала воображение композитора, то воображение, которое естественнее было употребить на сочинение музыки. И уставший от болезней и тяжб Даргомыжский пишет «трезвому» Кюи письмо, где шутка соседствует с мукой:
«Не можете ли зайти ко мне сегодня, хотя на полчаса. Мне хочется показать вам бумагу о новой претензии Стелловского на все поспектакльные платы за представления „Русалки“.
А. Даргомыжский».
Письмецо отзовется в статье Кюи «Последний концерт Русского Музыкального Общества. Еще Стелловский» [65]. Публика узнает и о том процессе, который затеял беззастенчивый сутяжник с сестрой Глинки, и о его желании выпустить «Ивана Сусанина» с театральными купюрами. Нелепое намерение дать «неполную» партитуру заставила Цезаря Кюи подвести черту под «неблагонадежным» делом вздорного издателя, и здесь с неизбежностью прозвучит имя не только покойного автора «Сусанина» и «Руслана», но и другое — почти уже умирающего композитора: «…Деятельность Стелловского по музыкальным делам, его безобразное переложение увертюры „Русалки“, его запрещение исполнять произведения Глинки и Даргомыжского мало могут содействовать к усилению надежд на его настоящее предприятие».