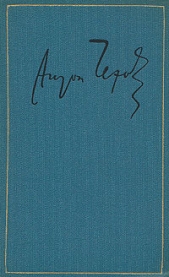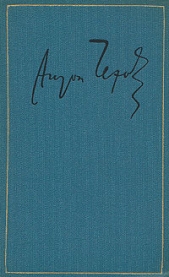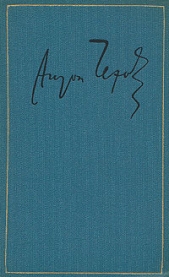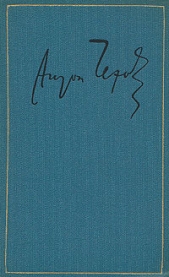Чехов. Жизнь «отдельного человека»
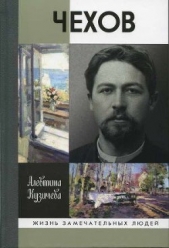
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вероятно, Чехов вел речь о том, что содержание большой семьи (отец, мать, сестра, брат Михаил) вынуждало его писать много и быстро. Невольное многописание утомляло физически и душевно. Это понятно из ответа старшего брата: «А что ты работать не в состоянии — этому я верю. Тебе жить надо, а не работать. <…> Ты пишешь, что если судьба не станет милосерднее, то ты не вынесешь и что если ты пропадешь, то позволяешь мне описать твою особу».
На это откровенное и, видимо, отчаянное письмо «петербургский» брат ответил советом: «Поставь себе клизму мужества и стань выше <…> этих мелочей. <…> Плюнь, брате, на всё; не стоит волноваться». А главное, Александр предлагал «продаться» Суворину, принять его предложение, стать сотрудником «Нового времени» за 200 рублей ежемесячного жалованья: «Сообрази, подумай мозухом и ведай, что в этом <…> не было для тебя ничего оскорбительного. Писать издалека и быть на месте — сам знаешь — вещь разная».
В этих советах весь Александр Павлович: потерянный, малодушный, списавший свою исковерканную домашнюю жизнь на судьбу, на злосчастную Анну Ивановну, на нездоровых детей…
Ответ последовал сразу: «Merci, Гусев, за письмо. <…> Начинаю входить в норму. Денег пока нет. О поездке на житье в Питер нельзя думать… Возможно только одно — жить в Питере месяцами, что и случится. <…> Поклон всей твоей кутерьме с чадами, чадиками, цуцыками. А главное, не пей. Прощай. А. Чехов».
Почему, дойдя до точки, до крайности в безденежье и скорописании, Чехов не бросил литературную работу, эту «любовницу», и не вернулся к медицине, своей «жене»? Может быть, потому, что врачебная практика сулила одни убытки? Он, в силу характера, лечил осторожно и долго, стеснялся брать гонорары. Или потому, что уже был отравлен литературной работой?
Как бы то ни было, но упадок духа в конце лета он одолел напряженнейшей работой над пьесой «Иванов». Даже повесил на двери кабинета картонку: «Очень занят». Жаловался, что на пьесу ушла вся его энергия, остался недоволен женскими образами, что-то в написанном казалось ему «ничтожным, вялым, шаблонным».
Действительно ли Чехов написал «Иванова» за 10 дней, как он говорил сам? Даже перенести сложившийся сюжет на бумагу за это время и то маловероятно. Но придумать и написать за такой короткий срок большую пьесу почти немыслимо.
Отдельные выражения, детали, интерес к такому человеку, как главный герой, мерцали в рассказах, написанных Чеховым в 1887 году. Приказчик Мелитон («Свирель») горевал об оскудении природы, рассуждал о господах, которые «ослабли больше мужиков». Здесь будто предвосхищен взгляд на Иванова со стороны: «Нынешний барин всё превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет. <…> Нету него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. <…> Так и живет пустяком».
Тему помещичьей жизни Чехов освещал то иронически, как мечтание о райской жизни на природе («Выигрышный билет»), то пародийно, обыгрывая штампы «идейных» пьес («Драма»). Он словно подступался к такому герою, как Иванов, в рассказе «На пути». В признаниях Лихарева о жене, сведенной в могилу его поведением; в рассуждениях героя о русской жизни и русском человеке словно мелькнула тень Иванова.
Да, что-то уже обещало «Иванова», и пьеса явилась не из пустоты, а, наверно, из образов и картин, о которых Чехов писал Григоровичу в 1886 году: из тех, что он берег и тщательно прятал. Он не скрывал, что намерен писать так, как ему хочется, но не уверен, что у него получится. Очевидное недовольство чужой словесной «архитектурой» не означало, что в его воображении возникло совершенное создание. Чехов не поверил актерам, уверявшим автора, что у него чутье драматурга, и он не сделал якобы в пьесе « ни однойсценической ошибки».
Но был возбужден. Признак этого — обилие грубоватых слов в письмах: рожа, лопай, гнусное, башка, задрыгал, к ядренойи т. п.
Употреблял ли Чехов бранные выражения? Один из современников вспоминал, что в мужской компании Чехов «мог взять прейскурант аптекарского магазина, встать в позу и прочесть его, делая острые, порой нецензурные замечания к названиям». Во время приятельских пирушек он заводился и придумывал бог знает что, от чего все хохотали, но никто не обижался. Кто-то из наблюдательных знакомых подметил, что в состоянии скрытого волнения Чехов затевал неожиданное застолье. Он, например, признавался, что не любит уезжать один. Всегда зазывал кого-нибудь с собою на вокзал. Ожидание отхода поезда усиливало в нем тревожное чувство. Как и вообще всякое ожидание…
Осенью 1887 года настроение Чехова менялось каждый день. То, по его словам, хандра, то легкое познабливание. Он даже говорил, что стал «психопатом». К ожиданию премьеры «Иванова» в театре Корша добавилось волнение из-за Пушкинской премии за книгу «В сумерках». О ней хлопотали Суворин и Полонский, но Чехов не верил в это: «Пушкинская премия не можетбыть мне дана. <…> Ее не дадут уж по одному тому, что я работаю в „Нов[ом] времени“». Он боялся награды: «<…> я наживу столько нареканий, особливо в Москве, столько хлопот и недоумений, что и пятистам рад не будешь». Он испытывал чувство неловкости, мнительности и даже страха: «Премию я мог бы взять только в том случае, если бы ее поделили между мной и Короленко, а теперь, пока еще неизвестно, кто лучше, кто хуже, пока во мне видят талант только 10–15 петербуржцев, а в Короленко вся Москва и весь Питер…»
Он явно страшился не столько возможного отказа, сколько разговоров о незаслуженности награды, якобы свидетельстве всесилия Суворина, а не читательского успеха. Он предчувствовал такие толки, которые бы его задели и оскорбили. Поэтому, наверно, так взволновало письмо брата с новостью о премии.
Только что, три недели назад, в московском журнальчике «Развлечение» появился «рассказ», похожий на откровенную клевету. Автор, А. М. Пазухин, видимо, не забыл, как в 1883 году в «Осколках московской жизни» Чехов назвал его «горе-писакой», «раздирательным, рокамболистым писателем». Теперь он отыгрался, аттестовав Чехова «ветеринарным врачом», тенденциозным автором бульварных изданий «Щепки» («Осколки») и «Петербургской мелочной лавочки» («Петербургская газета»), «Новое время» фельетонист, видимо, трогать побоялся.
Об авторе пасквиля Чехов сказал, что «не имел чести лечить» его. О литературных врагах он знал и до этого выпада — московская бульварная пресса мстила ему за многое. За «Осколки московской жизни». За то, что игнорировал эту «портерную» среду. За то, что был признан литературным Петербургом. Возмущаясь этими газетными выходками, Лазарев вместе с тем удивился одной черте в Чехове. Тот все равно оставался со всеми внешне «любезен и обязателен». И вообще избегал конфликтов, выяснения отношений. Никогда не пускал в чужой адрес столь любимого в этой среде «подлеца».
Атмосфера раскаленных самолюбий, зависть, материальные претензии сшибали с ног или навсегда отравляли многих в мире мелкой прессы. «Портерная» литературная компания злословила, бранилась, клеветала. Серьезная литературная Москва всё еще приглядывалась к Чехову, осторожничала. Его снисходительно хвалили за «бойкие» рассказы, но не более того. Петербургские журналы «Север» и «Северный вестник» оказались настойчивее. Так повелось давно — литературная репутация складывалась в столице. Пока Москва ворчала на Чехова, Петербург с интересом всматривался в новое дарование. Появление «Иванова» еще очевиднее обнаружило эту разницу.
До премьеры Чехов называл свое детище «глупой», «злосчастной» пьесой. После первого представления обозвал еще насмешливее — «пьесенка», «малозначащее дерьмо». Чем сильнее волновался он за судьбу своих рассказов, повестей и пьес, которые называл в шутку чадами, рожденными в болезнях, тем сильнее иронизировал по их поводу. Вероятно, скрывал «родительское» чувство, которое театр уязвил до последней степени. Порог театра Чехов переступил с уверенностью, что «автор хозяин пьесы, а не актеры». Репетиции и премьера 19 ноября 1887 года доказали обратное. Исполнители ролей не выучили, путали, несли отсебятину. Чехов, по его признанию, испытал лишь «утомление и чувство досады»: «Противно <…>. Театралы говорят, что никогда они не видели в театре такого броженья, такого всеобщего аплодисменто-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось слышать столько споров, какие видели и слышали они на моей пьесе». Словно оправдалось случайное соседство «Иванова» с пустяковой шуткой-водевилем «Зало для стрижки волос», шедшей во втором отделении.