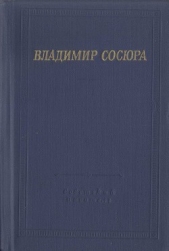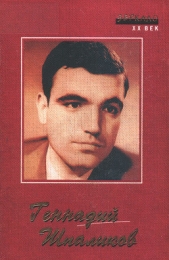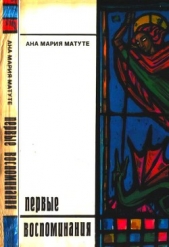Третья рота
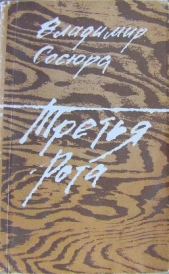
Третья рота читать книгу онлайн
Биографический роман «Третья Рота» выдающегося украинского советского писателя Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965) впервые издаётся на русском языке. Высокая лиричность, проникновенная искренность — характерная особенность этого самобытного исповедального произведения. Биография поэта тесно переплетена в романе с событиями революции и гражданской войны на Украине, общественной и литературной жизнью 20—50-х годов, исполненных драматизма и обусловленных временем коллизий.
На страницах произведения возникают образы современников поэта, друзей и недругов в жизни и литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Слава Украине!
Наша сотня не в лад (не в такт шагу) ответила «Слава Украине», и Зубок-Мокиевский погнал нас бегом на гору. Он бежал рядом с нами и хрипло кричал: «Загоню, сукины сыны…» (Вишь, когда волнуется, говорит по-русски…) Но ведь и он бежал вместе с нами. Он уже в годах, а мы молодые, полные сил хлопцы (кормили нас хорошо — правда, мало, но мы ещё пекли и ели кукурузу). Ясно, что он запыхался раньше нас. Команда:
— Шагом! — И мы, посмеиваясь в душе, вытянувшись в струнку, идём по полям Подолья.
Нас воспитывали декоративно.
Мы постояли ещё в Цивковцах, в имении Римского-Корсакова. А осенью двинулись на Каменец.
У меня в этот день, как назло, появился чирей под коленом и очень больно было сгибать ногу. Я положил винтовку на дроги и хотел ехать на них. Но Зубок-Мокиевский, узнав об этом, запретил, отправил меня в строй.
Я шёл семь вёрст и только к Каменцу расходился.
Нас разместили в духовной семинарии.
Мы ходили в караул к «высокой директории».
Юнаки очень любили козырять, отдавать честь. Делали даже так. Старшины, которым надо отдавать честь, встречались редко, так юнаки в воскресенье отправлялись в парк и группами ходили, козыряя друг дружке. Будто встречались случайно.
Меня, как недисциплинированного, не ставили у кабинета Петлюры, ставили у него в саду. Была осень, и я «хорошо» стерёг Петлюру: залезу в соседний сад да и ем себе груши. Они холодные, вкусные. Я дошёл почти до безумия — хотел заколоть этого «украинского Гарибальди», как писали о нём итальянские газеты. Петлюра в профиль очень походил на Раковского.
Когда мы проходили по городу, украинская интеллигенция кричала нам «слава» и осыпала цветами наши стройные, словно из меди кованные, ряды. А Зубок-Мокиевский, если никого из панночек нет, молча идёт рядом. Но как только увидит панночек, начинает командовать:
— Головки выше!
— Руки…
— Штыки…
Однажды наш караул подкрепили галицийской жандармерией (охрана республиканского строя), и вот я стою ночью на одной стороне улицы, а галичанин — на другой. Я завёл с ним разговор о политике, и мы сошли со своих мест, собственно, это галичанин подошёл ко мне. А ведь на посту разговаривать запрещено.
Вдруг слышу из кустов голос Зубка-Мокиевского (он был тогда караульным старшиной):
— А это что такое?..
Подбегает ко мне и кричит, топая ногами, что я не юнак, а баба и что он меня откомандирует обратно в мой полк. Для каждого юнака это было крахом карьеры, а для меня — концом моей волшебной мечты. Я спокойно ответил:
— Пан сотник, вы меня ещё не знаете.
Наутро Зубок-Мокиевский шутил со мной и не напоминал о моём полке.
Однажды я увидел в кино Констанцию. Только у Констанции глаза голубые, а у этой чёрные. Как я умоляюще ни смотрел на неё, она не обращала на меня внимания, глядя куда-то в сторону…
Я стоял в карауле у военного начальника и увидел махновцев, которых отдал нам с обозами Махно. Они были в лохматых шапках. Я разговорился с ними, и когда они узнали, кто я, сказали мне:
— Какого ж чёрта ты сюда попал? Твоё место у батьки Махно.
Они говорили, что воюют «за хлеб и волю».
Однажды сидим мы босые. Сапоги разбили на муштре. Была уже осень. Ждём сапог. К нам пришёл Петлюра. Я видел его вблизи. Он сел на подоконник, расспрашивал нас про нашу жизнь и шутил с нами.
В официозе директории [13] «Украина» печатались стихи Стаха [14] (Черкасенко) и Олены Журлывой [15]. Я ужасно завидовал Олене Журлывой, ведь я сколько ни приносил стихов Владимиру Самийленко [16], он засовывал их в карман и «забывал». Вот хитрый дед. Чтобы не обидеть меня отказом, прятался за свою рассеянность.
Первым поэтом, с которым я познакомился, был В. Самийленко.
Мне было очень приятно прикуривать папиросу от его трубки… Я прямо-таки дрожал от наслаждения. Ведь прикуриваю от трубки великого поэта…
Вот начало одного стихотворения, которое Самийленко «забыл» напечатать:
В школе галицийские профессора и старшины воспитывали нас в сугубо националистическом духе.
В школе я написал на русском языке поэму «1918 год», которую посвятил товарищу Ленину. Эту поэму я читал юнакам. Один юнак сказал:
— И правда. Они нас за это и бьют…
Помню конец этой поэмы:
Галичане перешли к белым… Наша армия стала таять, как воск. Казаки массами начали переходить к белым. Ведь наш комсостав был из русских офицеров, которые, удрав от большевиков, засели в штабах и только и умели пьянствовать, щеголять в своих галифе и «получать кош-ты»… Об умиравших за них казаках они под звон бокалов и поцелуи проституток говорили:
— Пусть воюют, этого навоза на наш век хватит.
Ноябрь 1919 года.
Наступает армия Слащова. Все панически бегут.
Офицерский броневик, первым подошедший к Жмеринке, галичане встречают музыкой.
Сражается только шестая Отдельная Запорожская дивизия, в состав которой входит и 3-й гайдамацкий полк. И вот нас, 800 юнаков, Петлюра бросает на оборону подступов к Проскурову, а сам удирает в Польшу.
Когда мы выступали, дул ураганный ветер. Мы идём на фронт, а поляки занимают Каменец. Мы — в новой части города, а они уже в старой. Едва не дошло до боя с поляками. Юнаки выставили заставу, и я стоял в дозр-ре… Темень, ветер…
Польские солдаты высадили из автомобиля наших министров Швеца и Макаренко. Автомобиль отобрали, и наши министры по грязи пришли на вокзал.
И тогда тоже едва не дошло до боя.
Нас погрузили в эшелон. В Проскурове всем нам выдали длинные кожухи с воротниками до плеч. В кожухе — не в шинели: тепло. В Проскурове я встретил товарищей из бывшего своего 3-го гайдамацкого полка. Они напоили меня «николаевкой» — и я пьяный еду на фронт.
Выгрузили нас в Богдановцах. Сидим на станции… Вдруг — ббамм!
Стрелочник испугался и с криками: «Ой пропал, пропал!» — бросился от нас наутёк… Его поймали, спустили до колен штаны, положили на живот, и юнак из гайдамаков спокойно и деловито стал его шомполовать…
Мне противно было слышать мягкие удары шомпола и стоны железнодорожника.
Зубок-Мокиевский кричит:
— Первая сотня, вперёд!
Я был в первой сотне.
Рассыпались в цепи и стали наступать вдоль железнодорожного полотна.
Броневик «Коршун» отступает и бьёт по нам. Идём через леса, овраги, снега… А он всё бьёт…
Ещё в Дунаевцах я набрал полную сумку сахара. Эта сумка всё съезжает вперёд, бьёт по ногам и мешает идти, а я всё сдвигаю её обратно, за спину… Броневик стреляет.
Я в дозоре… Ветер, и кругом смерть…
Идём. Спускаемся по косогору мимо села Богдановны… На снегу множество следов сапог и дорожка от пулемёта.
Старшины говорят нам:
— Не волнуйтесь, их мало…
Сзади нас идут два наши броневика «Месть» и «Вольная Украина». Они бьют так бестолково, что иногда попадают не по «Коршуну», а по нашей колонне.
И вот вышли мы на замёрзшее болото, что между Коржевцами и селом Богдановцы. Летом болото это было непроходимым, и мы перестреливались с большевиками через него из пушек.