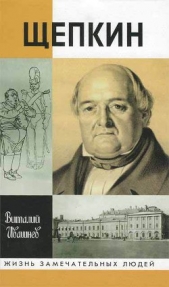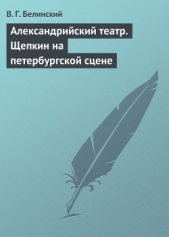Щепкин

Щепкин читать книгу онлайн
В настоящем издании представлена биография Михаила Семеновича Щепкина, великого русского артиста, одного из основоположников реализма в русском театре.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Выход за нами, — говорили славяне, — выход в отречении от петербургского периода», в возвращении к пароду, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство, воротимся к прежним нравам!»
Но история не возвращается, жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами».
«Нам, сверх того, — продолжает Герцен, — не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьянина, а к старинным неуклюжим костюмам?
Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок, а К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина!»

М. С. Щепкин.
Портрет работы Тараса Шевченко. (Исторический музей в Москве).
Самыми сильными представителями славянофильства были братья Киреевские, Хомяков и Константин Аксаков. Их и их круг называет Герцен «не нашими». Нашими для западников были Огарев, Сатин, Грановский, Белинский, Кетчер, Кудрявцев и многие другие литераторы, публицисты и профессора университета. Споры между западниками и славянофилами были ожесточенные. Между ними велась своеобразная война, которая, — вспоминает Герцен, — сильно занимала литературные салоны в Москве.
«Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда парил А. С. Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале, где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять, где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали, где Редкин выводил логически личного бога, где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воска лицом, сверлил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана до Рекамье, где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выживая кругом все, что попадало».
Уже в этом живописном изображении Герцена московских гостиных, в которых велись споры между западниками и славянофилами, мы встречаем имя Щепкина. Михаил Семенович коротко знаком и с теми, кто был для Герцена «нашими», и с теми, кто в его глазах были чужими.
Щепкин не разбирался в социальных и политических оттенках мыслей и убеждений обоих враждующих кружков. Щепкин и тем и другим был равно приятен. Щепкину и те и другие были одинаково интересны, одинаково поучительны. Во многом он чувствовал себя ближе к западникам, чем к славянофилам. Та неутомимая жажда знания, которая была в нем так сильна, естественно влекла его к тем, круг познаний которых был шире уже по одному тому, что вмещал в себе западноевропейскую культуру, ненавидимую «славянами». Да и слишком хорошо знал Щепкин русскую жизнь, для того чтобы могла быть для него убедительной проповедь Киреевских или Аксакова о возвращении к «народности». Но он нисколько не чуждался славян. Среди них были люди, связанные с ним узами самой тесной дружбы. История поставила его свидетелем боев между двумя крылами.
Но и в кругу западников не могло быть полного единомыслия. И в их среде происходили глубокие процессы внутреннего расслоения. Наиболее решительные смело порывали с традициями прошлого и, устремляя мысль на Запад, впитывали в себя новые социальные учения. Отсюда колебания умов, настроенных нерешительно, отсюда и смелые сдвиги и в сторону исповедания социалистических учений — Герцена, Огарева, Белинского. Они стали социалистами и материалистами. Смерть рано унесла Белинского — нет сомнения, что он последовал бы за Герценом и в дальнейшем развитии внутреннего процесса, переродившего его интеллигентский радикализм в активную революционность.
Щепкин не понимал этих сложных процессов. Занимательный собеседник, «изучивший мясо современных рыб больше, чем Агасис кости допотопных», каким зарисовал его Герцен, он в биографиях борцов за новую революционную идеологию, проходит как неизменный застольный собеседник, неутомимый участник походов за грибами, как великолепный, наконец, рассказчик, анекдоты которого — украшение дружеских пирушек. Знаменательно, например, что Щепкин жил в том же Соколове, куда собрались Герцен и его друзья в то лето, которое оказалось роковым для дружбы Герцена и Огарева с Грановским. Здесь, в Соколове, произошел между ними разрыв, и здесь было принято Герценом решение стать бесповоротно на тот путь активной политической деятельности, который вел его за российские рубежи.
«В Соколове, — рассказывает Анненков, — было образовано нечто в роде подвижного конгресса из беспрестанно наезжающих я пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом. Хозяева жили в страшном многолюдстве и, повидимому, не имели времени сосредоточиться на каком-либо своем собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями: тут, кроме Панаева, оставившего и описание соколовской жизни, промелькнули в моих глазах Н. А. Некрасов, давно уже мне знакомый и возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбой и своей поэзией, затем Ив. Ив. Павлов, здесь впервые мною и встреченный и поражавший оригинальной грубостью своих приемов, под которыми таилось у него много мысли, наблюдения, юмора и т. п. Е. Ф. Корш, старый Щепкин, молодой рано умерший Засядко, начинающий живописец Горбунов, сделавший литографированную коллекцию портретов со всего кружка, были постоянными посетителями Соколова…»
Разговоры, прения, рассказы, отражая все многообразие характеров, умов и настроений, носили еще один общий тон, который и был господствующим тоном всех бесед этой эпохи.
Щепкин снимал дачу по соседству. А. И. Герцен оставил его изображение: «в шляпе, с широкими полями, в белом сюртуке, с кузовком набранных грибов приходил он пешком, шутил, пел малороссийские песни и морил своими рассказами».
Казалось, что все идет мирно. Но на самом деле назревал конфликт. Происходили споры с Грановским. Грановский — профессор-историк, лекции которого привлекали толпы слушателей, сумел, как говорит о нем Герцен, «в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения, стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и примиряющая стихия». И все-таки дружбе с Грановским был положен конец. Слушая рассуждения своих друзей о единстве материи и духа, Грановский заявил однажды: «Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезнет бессмертие души. Может, вам его не надобно. Но я слишком много схоронил, чтобы поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо».
Было ясно, что здесь начинается та точка расхождения, которая свидетельствует о невозможности сохранить в дальнейшем прежние отношения, полные искренности и единомыслия.
Московский кружок западников сороковых годов распадался. Герцен, за ним Огарев стали изгнанниками.
Эпилог щепкинской дружбы с Герценом разыгрался далеко от Москвы: в Лондоне в 1853 году. Михаил Семенович, ездивший летом этого года в Париж, решил навестить старого друга. Но это не было обычной встречей после долгой разлуки: Щепкин, не устрашась морского пути и полного незнания английского языка, выполнял, как ему казалось, долг совести. Он ехал к Герцену с целью просветить «заблуждавшегося» редактора «Колокола», революционный звон которого будил спящее сознание людей, удушаемых николаевским режимом, ехал направить его на «путь истинный». Герцен давно порвал последние связи с той прекраснодушной, много разговаривающей, сладко мечтающей, но ничего не делающей либеральной интеллигенцией, которая продолжала числиться в западниках, все дальше и дальше отходя от социальных учений Запада. Революционная борьба, которую вел Герцен-эмигрант, была одинаково неприемлема и для «славян», и для переживающих пору своего распада западников. Герцен-изгнанник чувствовал себя одиноким. «Русские в это время все меньше ездили за границу и всего больше боялись меня», — восклицает Герцен. Он был одинок. Связи с «патриархальной Москвой» были порваны, отношения с людьми нового поколения, пришедшими на смену барской интеллигенции, не налаживались. Молодое поколение страстно спорило с Герценом. Активная революционно-политическая борьба, зачинавшаяся в нелегальных кружках шестидесятников, Герцену казалась преждевременной. Он теперь охотнее протянул бы руку Грановскому, при всем различии точек зрения на материализм, чем Чернышевскому, статьи которого в «Современнике» вызывали Герцена на ожесточенную полемику в «Колоколе».