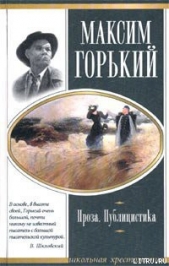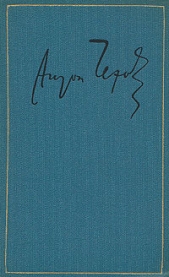Дневник заключенного. Письма

Дневник заключенного. Письма читать книгу онлайн
Автобиография, дневник и письма к родным Феликса Эдмундовича Дзержинского, которые включены в эту книгу, помогут читателям ярче и полнее воссоздать образ революционера, ученика и соратника В.И.Ленина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
16 июля
Привлеченных по люблинскому делу судили и казнили не здесь, а в Люблине. По влоцлавскому делу – шесть виселиц. Скалон уехал. Утгоф заменил всем виселицу каторгой. Рогов оставил следующее письмо: «Дорогие товарищи! Осталось всего несколько часов ожидания смерти среди дум и воспоминаний о прошлом, еще столь недалеком для меня, так как еще вчера была у меня надежда на возвращение к вам, на вступление снова в ваши ряды. Теперь я хочу эти последние минуты тоже отдать вам – вам и делу, которому я посвятил всю свою жизнь. Я боролся так, как умел, распространяя живое слово, и работал, как только мог. Товарищи! Я осужден за дела, чуждые мне, [81] за дела, противником которых я был, в которых я не принимал ни малейшего участия. Но какое до этого дело правительству палачей и вешателей? Случилось то, что уже повторялось не раз, то, что встречается на каждом шагу в государственной жизни современной России. Преступление, преступление и преступление. А жертвой этих преступлений является пролетариат, и самые сознательные его сыны. Настоящий момент – момент застоя в нашем движении, и в этот момент я хочу сказать вам несколько слов со своей теперешней трибуны – из камеры смертников: за работу, товарищи! Пора! Давно пора! Пусть совершаемые теперь преступления побудят вас усилить борьбу, которая не может прекратиться.
Товарищи! Все вы, отдыхающие после продолжительного и тяжелого труда, за границей и на родине, неужели вы и теперь будете оставаться пассивными? Нет! С этой верой я сойду в братскую могилу у крепостного вала. С горячей верой в наше будущее, с верой в нашу победу, с возгласом: «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!» Прощайте все, все!»
Только это он и оставил! А в книжке я прочитал его подпись: «Герш Рогов, в минуты предсмертной муки». Убили невиновного. Фактически Козелкин совершил обычное для него убийство. Дважды опрошенный Скалоном, он всякий раз отвечал, что у суда не было ни малейшего сомнения относительно виновности Рогова.
В павильоне теперь настроение тихое, грустное и мертвое. Не слышно, как это раньше бывало, песен; нет прежней оживленной переписки: мы не знаем даже, кто сидит в этом же коридоре. И люди другие. Многих увезли, есть новые, а старые успокоились, присмирели. Не колотят в двери. Заключенная Гликсон в нашем коридоре почти не выходит на прогулку. Жандармы все еще запуганы. Они уже теперь совершенно не разговаривают с нами, боятся даже взглянуть па нас дружелюбно, чтобы мы не заговорили с ними, ищут писем; лучшие из них, когда находят, сами их уничтожают, худшие, более трусливые, передают в канцелярию. Они и нас боятся, так как знают, что здесь сидят и шпионы; боятся также, что мы упомянем о них в письмах и что письмо может быть перехвачено. Один из них, который раньше сам заговаривал и просил с ним поговорить, вел меня однажды с прогулки в канцелярию. Я попрощался с товарищами по прогулке и пошел, размахивая шляпой. Он вознегодовал на меня за это, а когда я ему что-то ответил, он пригрозил, что прикажет солдату ударить меня прикладом. Возмущенный этим, встретив начальника, я, находясь под первым впечатлением происшедшего, пожаловался… Жандарм словно одурел и, оправдываясь перед начальником, все твердил: «Нельзя раскланиваться, нельзя раскланиваться». О нем и раньше говорили другие жандармы, что он не злой, но глупый. Жандармов за всякий пустяк наказывают карцером или заставляют по два часа, вытянувшись, стоять в канцелярии с обнаженной шашкой в руке. Я однажды видел, как стояли рядом два жандарма, вытянувшись в струнку, на полшага от стены и под угрозой большего наказания не смели ни опереться, ни отдохнуть и лишь переступали с ноги на ногу. В глазах одного я заметил блеск ненависти, в глазах другого – мертвящий животный страх. Да, тихо у нас и грустно. Только в окно откуда-то с той стороны крепостного вала долетают до нас звуки отдельных выстрелов и залпов – это солдаты упражняются в стрельбе из винтовок и орудий. И лишь накануне праздников и в праздники слышна военная музыка. Только на прогулке мы немного оживляемся. Мы с Варденем уже третий месяц сидим вдвоем. Нам обоим неплохо вместе. И тем не менее по временам что-то мутит и толкает сказать друг другу колкость, сделать что-нибудь назло, хотя мы и сжились друг с другом. По временам какое-нибудь слово, какая-нибудь шутка или хождение по камере, а то и само присутствие другого ужасно нервируют, и тогда какое-нибудь злое слово вдруг всплывает и готово сорваться. У нас еще хватает сил удержать его, не позволить ему появиться на свет, и мы подавляем его в зародыше. Быть может, помогает нам то, что мы не навязываемся друг другу, что каждый из нас может жить самим собой и не наблюдать за другим и что мы часто не чувствуем присутствия друг друга. Тяжело то, что в данное время судьба наша не одинакова – моя более легкая, есть надежда скорого освобождения, а у Варденя в перспективе каторга и продолжительное заключение, и он не может примириться с этим. Он при этом одинок. Извне он ничего не получает. А это тяжело. Товарищи, помните о заключенных! Каждое проявление внимания – это луч солнца и надежда на воскресение из мертвых.
17 июля
…Оказывается, что Марчевская не принимала никакого участия в покушении на Скалона. Когда она сидела с Овчарек, она узнала подробности этого покушения и ложно созналась в участии в нем, желая, чтобы ее считали крупной революционеркой; она не опасалась попасть за это на виселицу, так как за ней числилось много бандитских дел, по которым ей нельзя было избавиться от веревки. Мы узнали об этом из бесспорно достоверного источника. Она прекрасно играла свою роль, я это ей полностью удавалось. Бесспорной правдой оказалось и то, что она провалила освободивших ее членов организации в Пруткове. Здесь она заключенную Гликсон, с которой некоторое время сидела вместе, выдала по какому-то делу на вале, по статье 279-й за налеты и «эксы», [82] а также донесла, что Гликсон агитировала здесь жандармов. Она выдала также жандарма, якобы оказывавшего услуги заключенным…
20 июля
Прощальное письмо Пекарского (Рыдза), казненного 4 июля: «Тяжело расставаться с жизнью, когда чувствуешь, что есть еще силы, чтобы служить делу, но если я на лотерее жизни уже вынул такой билет, – я согласен, ведь столько людей погибло ради нашего дела в этой борьбе. Никаких претензий ни за что и ни к кому я не имею. Пойду с верой, что когда-нибудь в нашей страда станет светлее, и тогда дух мой будет витать в обрадованных сердцах наших братьев. Прощайте все. Искренне желаю вам успеха в борьбе, победы. Будьте счастливы».
23 июля
Один из заключенных – рабочий, сидящий здесь около года, пишет мне между прочим: «Сознаюсь вам, что после работы и после пережитого на свободе мне кажется, что только здесь я дышу полной грудью, и я чувствую себя счастливым, что у меня есть возможность собраться с мыслями и углубить необходимые знания, которые я черпаю здесь из книг. Меня это так занимает, что день кажется коротким, и, если бы не забота о семье, я бы с большим удовольствием просидел еще долго. Желая возместить то, чем нельзя было воспользоваться на воле, мы ложимся ежедневно очень поздно, когда уже начинает рассветать, а встаем в 7–8 час. утра. И то день кажется нам слишком коротким для беседы и раздумья о прошлом».
Хочу привести 8десь отрывки из последних писем Монтвилла (Мирецкого) к одному из заключенных, приговоренного 5 октября к смертной казни за нападение у станции Лапы и повешенного в ночь с 8-го на 9-е.
«…3.10.1908 г. Дело мое во вторник. Судить будет Плонсон, обвинять Абдулов. Я чувствую себя, как после „помазания святым елеем“…
4.10. Мое дело вовсе не так уж скверно. Вам это может показаться странным, но я утверждаю, что если бы меня даже повесили, то, хотя в настоящее время всякая казнь вызывает отвращение, все-таки петля, накинутая на мою шею, имела бы свое очень большое положительное значение. В том, что я пишу, нет ни капли самомнения. Я смотрю на это так объективно, как будто бы речь шла не обо мне, а о каком-то третьем лице. В нашем обществе есть много людей, которые говорят, что члены боевого отдела толкают других под пули и на виселицу, а сами прячутся за чужие спины и живут как магнаты-расточители. Этим доводом пользуется охранка, когда убеждает арестованных сделаться предателями. Меня русское правительство признало членом боевого отдела; повесив меня, охранники не могли бы уже так говорить…