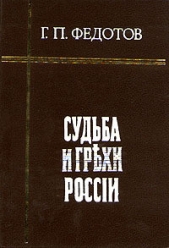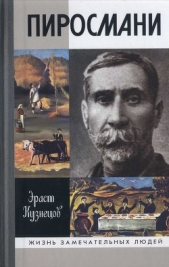Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сейчас за отдаленными линиями Васильевского острова идет плотная городская застройка. Тогда же город на них обрывался. Еще к юго-западу тянулась вдоль Невы пестрая и прерывистая ниточка домов, сараев, складов, на запад же простирались обширные пустыри, гордо звавшиеся Смоленским полем. Часть его занимал плац Финляндского полка и там же, после ухода Федотова в отставку, отвели полку участок под огороды — взамен слишком уж дальнего, у Литовского канала. Правда, за Смоленским полем существовал еще Поселок Галерной гавани — место совсем удивительное, некая автономия от Петербурга — со своим укладом и нравами. Севернее же находились лес и Смоленское кладбище, отделяемое Черной речкой (или Смоленкой) от следующего острова, Голодая, пользовавшегося недоброй славой: втихомолку поговаривали, что именно там погребены казненные из числа причастных к несчастному происшествию 14 декабря 1825 года.
Всё, что лежало на западе или северо-западе, — и большая часть Голодая, и другие острова поменьше, в том числе Вольный, равно как и обширная территория самого Васильевского острова, вплоть до низкого, словно готового слиться с поверхностью побережья Финского залива, — все это были места нежилые, даже просто дикие, или, сказать благозвучнее, девственные. Сюда приезжали и приходили пострелять уток, половить рыбу (как повезет — окуня, а то и лосося), поставить силки на птиц или просто побродить в поисках отдохновения души и единения с природой — скудной, но и в скудности своей остающейся Природой. Унылые места, однако в них была своя прелесть.
Но то была только одна сторона Васильевского острова и одна сторона предоставляемых им впечатлений. К востоку же он делался иным: чаще и внушительнее становились дома (впрочем, редко превышавшие два-три этажа), и все заметнее среди них были каменные. Большие церкви, лавки, магазины, торговые склады, богатый Андреевский рынок, причалы с множеством больших и малых судов. По берегу Невы чуть ли не вплотную друг к другу шли Горный корпус, казармы Финляндского полка, Дом трудолюбия, Патриотический институт, Морской кадетский корпус, Училище земледелия и горнозаводских наук графини Строгановой, Академия художеств, Первый кадетский корпус, Университет (несколько лет как сюда переехавший), Академия наук, наконец, Кунсткамера, соседствовавшая с восточной оконечностью острова.
Стрелка Васильевского острова являла собою апофеоз деловитости. Здесь находилась торговая гавань — средостение, через которое Петербург сообщался с Европой. Океанские корабли приходили сюда один за другим и, покорно опустив свои белые крылья, становились на разгрузку. Сновал пестрый народ из самых разных земель, говорящий бог весть на каких языках и наречиях. Заморские товары, волнующие колониальными запахами и самой своей иноземностью, громоздились посреди круглой площади в тюках и ящиках, укутанных рогожами от непогоды. Вокруг прогуливалась любопытствующая публика, охочая до впечатлений и познаний. Отсюда рукой было подать до Биржи или до соседнего Гостиного двора; можно было походить по лавкам, высмотреть нечто диковинное, вроде причудливых океанских раковин, кораллов, золотых рыбок, а то и обезьян, прицениться к товарам, побаловать себя рюмкой незнакомого вина, или джину, или рому, искурить настоящую гавану, отведать свежих устриц, выгруженных только что с корабля, — почувствовать себя немного в Ливерпуле, Гамбурге или Марселе.
Предназначенный стать центром новой столицы, но так и не успевший стать им, Васильевский остров действительно замкнулся в своей окраинности, но это вовсе не было сонное захолустье, вроде Коломны, приюта чиновников на покое, вдов и вообще небогатых людей, где «всё тишина и отставка». Нет, здесь, на Васильевском острове, продолжал жить дух петровского времени. Он сказывался во всем. В явном преобладании первоначальных построек — тех, что в центральной части города давно были снесены, перестроены неузнаваемо или попросту терялись в своей голландско-немецкой умеренности рядом с великолепными творениями Растрелли, Захарова, Росси, а здесь продолжали являть собою едва ли не высшую степень архитектурной роскоши. В постоянном и активном присутствии западного элемента — не только уже приноровившегося к российской жизни, обкатанного русским нравом и духом, как в центре, но сохраняющего своеособость, а с нею и способность взаимодействовать активно с элементом местным: соперничать с ним, оттенять его, влиять на него. Во всей непарадности облика, особенно берегов, не оправляемых любовно в гранит, но беспечно заваливаемых ящиками, бочками и тюками, захламляемых щепой, мусором, перегораживаемых вкривь и вкось заборчиками и заборами многочисленных складов, облепляемых лодками, баржами и суденышками самого разного сорта. И, конечно, в самом образе существования, при котором вставали рано и так же рано отходили ко сну, и когда в поздний час там, за Невой, продолжалась ночная жизнь, когда над домами угадывалось легкое золотистое сияние от фонарей, света в окнах и доносился неясный гул, — здесь уже властвовал покой крепкого здорового сна, и разве что в восточной оконечности острова чувствовалось слабое подобие движения.
На Васильевском острове меньше было праздности и тщеславия, меньше гнездилищ российского холопства: знатных барских домов с разжиревшей и наглой челядью, присутственных казенных мест, засиженных чиновничьей братией. Все, что ни рвалось к карьере, к обжигающему пламени успеха или к своей доле казенного пирога, не засиживалось на Васильевском острове. Вот ведь и гоголевский Чартков прозябал себе на 15-й линии, а чуть зашумело в голове — поспешил перебраться на Невский проспект.
Здешний житель был по преимуществу человек дельный, из тех, что сам себя кормит, что-то положительное умеет, не ищет покровительства и в жизни обязан главным образом самому себе — если не умелым рукам, так светлой голове или хотя бы житейской разворотливости (которая, если призадуматься, тоже есть и талант, и умение): купец, ремесленник, рабочий, моряк, военный, студент, врач, служитель науки, преподаватель или, наконец, художник.
Неудивительно, что Федотову Васильевский остров пришелся по нраву.
Обещанной казенной квартиры при Академии художеств он так и не получил. Несколько раз (вплоть до 1850 года) обращался с прошениями, напоминал, ссылался на барона Петра Клодта, такую квартиру при отставке получившего, объяснял, как стеснены его обстоятельства, просил хотя бы выдавать ему взамен квартирные деньги, но ничего из этого не получилось.
Дом Шишковой, в котором поселился Федотов, был ветхий, запущенный, почти нежилой, потому что кроме Федотова там большей частью никто не обитал — ни хозяйка, ни жильцы. В доме было то холодно, то угарно, а то и холодно и угарно вместе, во дворе царило запустение. Зато квартира обошлась чрезвычайно дешево, а житейских трудностей наш герой не боялся, он к ним был готов всецело.
В две комнатки — одна побольше, другая поменьше — и въехал он со своими гипсами, которых стало уже гораздо больше (появился среди них даже бюст Венеры Медичи, или Медицейской, как тогда ее называли), с литографированными «оригиналами», папками, рисунками, бумагой, красками, кистями, карандашами, со знаменитой черной доской и прочим достаточно нехитрым имуществом. По подоконникам низко расположенных окон расставил папки и картоны, чтобы свет шел хоть немного сверху — уловка, придуманная не им первым, с той разницей, что более хозяйственные заводили плотные занавески.
Как складывалась, устраивалась и обминалась его новая жизнь — нам не известно ничего; все это осталось вне воспоминаний, да и, скорее всего, не было никому доступно. Можно догадываться, что Федотову пришлось нелегко — даже при его уравновешенности и здравости. Нечто подобное он уже испытал десять лет тому назад, после корпуса. Правда, сейчас он стал повзрослее, но и перемена произошла посерьезнее.
Трудно с непривычки самому за себя отвечать. Трудно вдруг одному, без казармы, где все кругом свои. Трудно даже без начальства, которое хоть и давит тебя, а все-таки и опекает. Трудно заново (впервые в жизни!) устраивать жизнь, заводить новый обиход, все до мелочей. Было бы еще труднее, окажись Федотов совсем один. Слава богу, рядом находился Аркадий Коршунов — денщик, ушедший вместе с ним из полка, золотой человек, истинный подарок судьбы, каких не много перепадало Федотову в его жизни.