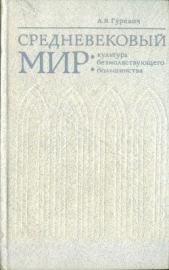Арон Гуревич История историка

Арон Гуревич История историка читать книгу онлайн
В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.
В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это понятие впервые встречается в романе Пруста, где один из персонажей говорит: «Недавно пустили новое слово — mentalitй. Это интересное слово, но вряд ли оно привьется». Его прогноз не оправдался. В 20–е годы появляется труд Леви — Брюля «La mentalitй primitive».
Блок и Февр, знакомые с этим трудом, были бесконечно далеки от того, чтобы выводы Леви — Брюля о природе «пралогического мышления» папуасов или эскимосов механически распространить на сознание людей, живших в гораздо более сложноструктурированных обществах Европы Раннего и Классического Средневековья. Но они предположили, что, по — видимому, на любой стадии развития человеческого общества в сознании людей существует эта магма представлений, ощущений, психологических установок — mentalitй. Она всякий раз может быть иной в зависимости от стадии развития, от характера общества и многих других факторов, она может различаться и в недрах одного социума, в зависимости от того, говорим ли мы об образованных людях или о невежественных простецах. Но она существует всегда, и определить ее очень трудно.
Не раз в своих лекциях я прибегал к такому сравнению. Если вы зададите человеку вопрос: «Каковы твои политические взгляды?», он может что‑то о них сообщить. «Каковы твои философские взгляды?» Не всякий ответит, но все‑таки один скажет: материя первична, сознание вторично, другой — нельзя войти в одну и ту же канаву дважды и т. п. «Каковы твои религиозные взгляды?» На этот вопрос можно ответить: агностик, атеист, протестант, католик, православный, буддист, мусульманин. Но попробуйте спросить: «А скажите, каков ваш менталитет?» Это может поставить человека в тупик.
В 60–х годах я и другие пустили в оборот это слово в русском языке — ментальность, менталитет. Теперь слово это так опошлили, что я, как историк, боюсь лишний раз его произносить, потому что могут неправильно понять — имею ли я в виду категорию исторического знания или же то, о чем уже с думской трибуны говорят: «Нам менталитет русского народа не позволяет…».
Менталитет — это тот бесконечно богатый уровень нашего сознания, та дифференцированная и вместе с тем запутанная категория, которая, как правило, не является предметом самоанализа. Но именно потому, что менталитет не осознан или осознается лишь частично, он владеет мною гораздо сильнее, чем идеология. Ментальность меняется, но медленно, исподволь, и так как она не контролируется сознанием хотя бы в той мере, в какой могут контролироваться, например, религиозность или другие формы идеологии, она не столько служит нам, сколько нас порабощает. Я могу сменить идеологию или политические взгляды, а разлюбить свой вчерашний менталитет и полюбить завтрашний? Может быть, он изменился с возрастом, но осознать это изменение очень трудно. И когда я сегодня вспоминаю 50–60–е годы, то не гарантирую, что вполне адекватно воспроизвожу структуру своего сознания тех лет.
Для того чтобы понять экономическое, политическое, обыденное, сексуальное, любое поведение человека, надо представлять себе, какой тип ментальности господствует на данном этапе исторического развития в этой группе, в этом классе, в этом обществе. Это — коллективное содержание индивидуального сознания. Оно надличностно. Оно принадлежит не только мне, а целой страте или даже целому обществу. При этом оно таится в сознании каждого отдельного человека и может проявляться в преломленном виде по — разному. Тем не менее общую «грамматику» поведения, общие правила мышления людей в данную эпоху при очень внимательном и принципиально новом изучении источников мы можем в какой‑то мере выявить.
Я опираюсь на знание огромного числа работ не только французских, но и американских, итальянских, немецких исследователей, на некоторые работы своих соотечественников и на свои собственные, и сейчас все это представляется мне относительно ясным. Я допускаю, что части моих слушателей или будущих читателей сказанное тоже более или менее известно. Тем не менее я был вынужден хотя бы вкратце остановиться на этом относительно ясном вопросе, поскольку речь идет о глубокой реконструкции внутреннего мира и взглядов историка в ситуации конца 50–х — начала 60–х годов. В то время, когда эти мысли впервые начинали роиться в моей голове, еще засоренной очень многими артефактами и клише предшествующей стадии нашего общественного и моего индивидуального развития, все это вырисовывалось сначала в высшей степени запутанно, неполно, и давались ти новые мысли с немалыми усилиями.
Я обнаружил, что в этом же направлении, хотя, может быть, с другой стороны, штольню пробивают специалисты других гуманитарных дисциплин. Как раз в конце 50–х — начале 60–х годов ищет свой путь семиотика — учение о вторичных моделирующих знаковых системах. Движение мысли и у семиотиков, и у историков ментальности в области медиевистики и раннего Нового времени развивалось синхронно. Семиотика выдвигает постулат о противоречии и различии планов выражения и планов содержания. Вы анализируете текст. Для того чтобы понять его истинность или неистинность, его внутренний смысл, надо от внешнего выражения перейти к тому, что скрывается внутри этого текста, обнаружить его потаенные пласты, потаенные, может быть, даже от самого автора. По сути дела, здесь совершается переход от исследования литературных и иных текстов к изучению структур сознания, на которые опирается культура.
С самого начала я встретился с глухим или ясно выраженным противодействием многих коллег. Как правило, они не отрицали начисто допустимости изучения менталитета, но были склонны сводить его к некоторым внешним инкрустациям или архитектурным излишествам на широком фронтоне социально — экономического здания. Понятие идеологии в привычном марксистском толковании, к тому же предельно упрощенном, вполне их удовлетворяло. На самом же деле речь шла о коренной перемене в отношении к предмету исторического знания и, соответственно, о новой его методологии.
Постепенно выяснялось, что самое важное — обращение новых вопросов к источникам. Это самое трудное для историка. Здесь проливается много крови, много пота, ломаются копья и перья, возникают очень серьезные противоречия, выдвигаются серьезные идеологические обвинения. Все это случалось и со мной, и не со мной одним. Но я был с самого начала убежден, что это та тропа, которая может привести к чему‑то, может быть, неожиданному, но, несомненно, плодотворному. Опираясь на свои работы, посвященные анализу общих концепций истории, методологических и эпистемологических постулатов, с одной стороны, и с другой — на знание трудов Блока, Февра и их последователей — Дюби, Мандру, которые все‑таки появились в наших библиотеках, я постепенно стал осваивать новые подходы к изучению исторического материала. Я счастливчик, потому что, когда мы здесь, как слепые котята, искали свои пути, своевременно прислушался к тому новому, что рождалось в трудах ведущих историков на Западе.
«История историка» (1973 год):
«Не знаю, как у других, у меня лично сторона иррационального, интуитивного, полусознательного занимает в работе большое, я бы сказал, выдающееся, место в искании, нащупывании проблемы, приемов ее разработки — в особенности. Мой ум, увы, не философский, я не имею способности и склонности к систематической разработке категорий и не чувствую себя “как рыба в воде” в мире отвлеченных понятий. Мне постоянно нужно опираться на некую совокупность фактов, представить себе нечто исторически конкретное. Я не логик и не социолог, который способен “выключить” историческое время и “пренебречь” материей истории. (В этих словах нет или, вернее, не так много скрытой иронии, я просто констатирую, что я не таков, как они.) Мало того — мне трудно писать по плану, заранее разработанному в голове или на бумаге. Для того чтобы начать писать, мне необходимы общая идея, проблема, догадка и ка- кие‑то конкретные данные, с нею увязанные. Тогда можно попробовать поразмыслить над ними, сидя за машинкой.
Никогда заранее не известно, пойдет работа или нет. Представить себе статью, тем более книгу, в голове, чтобы затем сесть и записать ее, — невозможность полнейшая. Додумываю только в процессе писания, который и есть процесс творчества (или важнейшая его составная часть). Куда меня в процессе писания “вывезет кривая” — никогда не знаю. Хорошо это или плохо — неважно. Так и только так я могу работать. Все это, несомненно, связано у меня с важной ролью интуитивного начала. Я осмелился бы назвать это начало чуткостью к актуальной проблеме и к тому, где именно и как к ней ведут нити из моего материала источников. После того, как эти свои качества я проверил в работе, получив несколько раз неплохой результат, моя интуиция окрепла. Как ее определить?