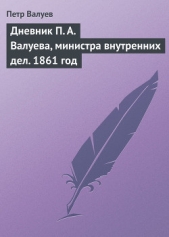Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утром ходил в шведское посольство. Никаких вестей насчет денег от Фокина нет. Г.Лундберг, заставивший меня прождать три четверти часа (ходил завтракать), был улыбчив, но куда менее любезен, нежели в те разы.
Вдоль набережной стоят теперь десять или пятнадцать новых военных судов средних калибров. Команды на них мало, вид у них понуренный. С них сносят всякие обывательские пожитки: комод, умывальники, матрасы — быть может, награбленные! У самого посольства происходил смотр (совершенно опереточный по своему разгильдяйству) какому-то отряду, часть которого тут же валялась на панели. Подойдя ближе, я убедился из возгласов и разговоров, что это финские красногвардейцы. Как же говорится, что советская власть сюда ступать не будет?
Днем в Зимний. По пути встретил Марию Александровну, которая очень встревожена каким-то покушением Щедрина. Все теперь склонны видеть во всех мошенников и экспроприаторов. Позже выяснилось, что это Чекато. Штеренбергу я успел сегодня шепнуть о Стипе и Обществе поощрения художеств: «Зачем им комиссар, если они частное общество? А впрочем, если сами хотят, то это хорошо». Ведь он стоит на точке зрения свободы школам. И, вероятно, мой забег был своевременен, ибо в приемной я встретил Наумова, которого я до сих пор в Зимнем не видел. От Штеренберга узнал и о том, что снова что-то не клеится с Грабарем. Даже получил от Татлина, превращенного в секретаря какого-то там Коллегии и обязавшегося не давать Грабаря в обиду, тревожную телеграмму о каких-то новых интригах…
Верещагин напуган сообщением, что у памятника Николаю I начались приготовления для его сноса, поставлена мина, собираются кучи народа. Сегодня же мы отправились с ним и с Нерадовским и случайно оказавшейся тут же депутацией к Луначарскому. Он успокоил нас совершенно: что-де Ятманов там предпринял какие-то украшения к 1 мая, и вообще ни единый памятник не может быть удален без предварительной санкции (или, по крайней мере, обсуждения вопроса в соединенных коллегиях). Разнесся слух, что объявленная мобилизация Пунина отменена. С особым тщанием он показывал какую-то телефонограмму, «еще не известную самому Луначарскому», где это подтверждается, но только в области Спасского района. Позже выяснилось, что весь слух этот основан на подобных частных районных постановлениях. Замечаем, впрочем, что и слух никого не взволновал. Тут же в «Верещагинке» околачивается старик Горчаков, страшно на меня обидевшийся за то, что я нашел его скорее помолодевшим. Он отстаивает свой особняк, который до сих пор был занят каким-то ликвидационным учреждением (вероятно, земгорского типа) и на который изъявляет претензии некий «Пролеткультотдел». Курбатов убеждает его добровольно уступить часть под музей (другого не выдумаешь), причем он сам остался бы в верхних комнатах. Но глупый и упрямый старик уперся на своем: не надо, и, вероятно, это кончится его полным выселением. Говорят, он совсем разорен. Чайковские третий день обитают в костеле сестер милосердия.
Вместе с Коллегией прошлись по залам, где пишутся панно к 1 мая. Боже, какая профанация, какой безумный вздор! Не бог весть какая красота — официальные холодные залы дворца, но какими они кажутся великолепными рядом с той жалкой «брызжущей» живописью, что творится у подножия их колонн. Какие-то заморенные художники марают по миткалю футуристическую бурду по проектам Пуни, Штеренберга, Богуславской-смотрящей. Тут же некоторые из мастеров: экзальтированный Пуни, Володя Лебедев, как раз писавший какую-то страстную фабричную блядь, долженствующую выражать «работницу»! Снова полная иллюзия, что сумасшедшие завладели жизнью.
Для очистки совести прошел лично к памятнику Николая I — проверить товарища Луначарского. Вероятно, он прав. С памятника ничего не снимают. Лесенка ведет к ногам коня, и под его брюхом болтается бандероль. Идиоты! Толпится народ. Рабочих никаких.
Письмо Луначарского — верх нахальства. Все утро убил на сочинение ответа, который как будто удался. Самого Луначарского уже в Зимнем не застал (мы должны были идти к нему депутацией по вопросу о царскосельских дворцах). Я попросил доставить письмо Труханову через Штеренберга (или как будет удобно). Предварительно же его прочел Романову, Лукомскому и Вейнеру. Во дворце кипит работа для завтрашнего дня, перед дворцом идут какие-то приготовления, тащат какие-то жерди, привязывают веревки. В общем, уже впечатление домашнего убранства и конфуза. И едва ли они поспеют. Прошел на дворик между садиком и дворцом посмотреть, в каком положении коллекции для шествия, но оказалось, и они имеют совершенно бесформенный вид и кажутся весьма жалкими рядом с исполином-дворцом. Для другой коллекции готов только трон — просто большой глухой стул, обитый красным. Тут же три художника-пролетария что-то мажут, а двое других что-то прилаживают — вяло, уныло, сопливо. Самих главарей я, к счастью, не встретил. Говорят, должен быть А.Т.Матвеев.
В Зимнем встретил Н.П.Лихачева, обросшего бородой и превратившегося в какого-то патриарха. Он лишился своего места, у него все отобрали, и он со своим странным семейством терпит форменную нужду. Всем этим «бедняга» так расстроен, что боится ходить один, и его сопровождает какой-то фамулус с веселыми пронырливыми глазами. Пришел к нам за охранным листом. Был до чрезвычайности любезен, не то что в дни славы, когда он любил подпускать важность и «невнимание». Я его постарался утешить обещанием, что все нынешнее ненадолго. Зубов был очень поражен и напуган, когда я высказал предположение, что между ним и Шаховской нелады. Напротив, я считаю, что княгине совершенно не место в Гатчине, она необычайно полезна, и мне через нее все удается сделать, хотя я там не сидел. Но страшно в это все входить, и всякая белиберда — например, из Кухонного каре сделать картинную галерею, сохранив, следовательно, все нынешние картины во дворце, — для кого?
На заседании в Музее Александра III я председательствовал, но царила такая скука, что я даже дважды под шумок словопрений заснул (надеюсь, это не заметили?). Докладывал Романов из Москвы, настаивая на возвращение экспонатов в Эрмитаж ввиду того, что там назревают события, а вещи в Кремле — под охраной лакеев, роющих друг другу ямы и вовсе не настроенных спасать вещи от гибели. Но как это сделать? И не упустить из «столицы» то, что ей надо, так как глупо отдавать в упраздненный Петроград! И как провезти, какой охраны хватит, чтобы их довезти в целости? Разве прибегнуть к универсальному средству — к латинянам?
Ожидая трамвая, чтобы ехать к Прокофьеву (пришлось все-таки дойти пешком и оттуда домой), встретился с Карсавиной. Она имеет сведения, что Брус собирается на несколько недель сюда. Как будто она этому не слишком рада.
Прощальное посещение Прокофьева сопровождалось для меня ощущением из «Стереоскопа». Он живет на той же лестнице, на которой и мы жили (двумя этажами выше) в 1899, 1900, 1901 годах). Я поднялся до самой нашей двери. Приятного ничего не вспомнилось: но все же что-то щемило. Курьезно, что «конфигурацию» двора я совершенно забыл, зато признал совершенно загаженную роспись стен. Вспомнились почему-то визит Волконского, встреча Кости Сомова и Сережи Дягилева после ссоры, красивая швейцариха, которая сломала себе ногу.
У Прокофьева я первый раз. Обстановка самая банальная — мелкочиновничья. Некоторую артистичность ей придает беспорядок и то, что вся мебель — по-летнему в чехлах. Его отъезд ориентировали два его больших поклонника — большеголовая, непрерывно осклабляющая аферистка и гризетка мадам Миллер, вызвавшаяся переводить его роман на все языки и, видимо, готовящаяся при этом его совершенно забрать. Кроме того, были почему-то очень возбужденный Сувчинский (он был на днях у Шаляпина и видел там Экскузовича, который уже претендует на директорство театром, но в то же время низкопоклонничает перед Федором, которого по этому случаю совсем облачил в «Бориса»), совсем развратный Асанов, а теперь друг Прокошки — поэт и величайший осел и моветон с претензиями на шик, обозливший меня тем, что он «ожидает момент, когда сволокут памятник Николая Палкина»! И ведь такие господа воображают, что они очень передовые. Ох, не мешает Прокошке порыскать по свету, отведав всякой нужды и горя, чтобы отстать от подобной среды, чтобы сбросить с себя «провинциального гимназиста»! Попрощались очень трогательно. Я ему вручил письмо к Милечке Хорват в Крым и к Саше Яше [живописцу Яковлеву].